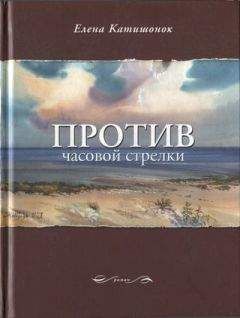Руки, а не угол одеяла.
…Ребятишкам, наконец, разрешили купаться, и на темном влажном песке белели снятые панамки. Воспитательница в сарафане стояла по колено в воде с привычно поднятыми для хлопка руками: «Окунулись! Окунулись дружно! Кто там брызгается, Скворцов?».
Коллектив – это когда тебя называют по фамилии.
…Запомнился день в самом конце лета – до переезда в город оставалось недели две. По утрам было прохладно, и детей выводили на прогулку в свитерах, кофточках и непременных панамках, и не на море, где был сильный ветер, а в лес. Здесь, в маленькой рощице, воспитательница взяла ее за руку и сказала: «Там за сосенкой тебя кто-то ждет», – и легонько подтолкнула в спину. Не дойдя до сосенки, Олька увидела чудо: над тропинкой свисали с куста грозди ярко-рыжих ягод, похожих на салют, и она встала как вкопанная. За сосенкой виднелось что-то серое; рукав?..
– Мама!..
Мама с улыбкой вышла на тропинку, и Олька кинулась, прижалась к серому жакету, поцарапав щеку брошкой на лацкане. Прижималась крепче и крепче, словно хотела врасти в маму, в любимый жакет, в мамин запах, совсем не такой, как у бабушки, другой: крепких духов, папирос и теплого шелка блузки. Мамин запах.
Это было не «родительское воскресенье» – обычный будний день, но Ольку отпустили погулять – с мамой! – до обеда. Выглянуло солнце, стало можно снять кофточку, а потом мама легко подпрыгнула и сорвала ветку с веселыми ягодами. «Это рябина, – объяснила мама. – Какая ты неразвитая, Лялька!» Мама весело сказала: «Пойдем пошатаемся», и Олька добросовестно закачалась из стороны в сторону. Оказалось, это делать было вовсе не обязательно, достаточно просто гулять. Ничего из «шатания» не запомнилось, потому что смотрела только на маму и, не отпуская маминой руки, поминутно забегала вперед, чтобы видеть мамино лицо.
Когда Олька вернулась в садик, все ели молочный суп с лапшой, и этот суп тоже запомнился: в такой исключительный день она мужественно проглотила пенку. После обеда постояла около умывальника, но руки мыть не стала: они пахли мамой, папиросами и духами. Легла в кровать, закрыла глаза и сквозь наплывающий сон слышала, как непонятно перешептываются две воспитательницы: «Мать-одиночка». – «Так что, ей закон не писан?» – «Заведующая разрешила». – «Это еще почему, интересно?» – «Там обстоятельства сложные». – «Ну не знаю».
Про одиночку Олька знала: это волк Акела из «Маугли», самый умный и справедливый. Бабушка привезла «Маугли», и воспитательницы разрешали ей читать вслух для всей группы, когда на улице шел дождь.
Мать-одиночка, решила она для себя, это волчица, мама Акелы.
…Другой временной слой, другая геологическая эпоха, когда Олька говорила слово «мама». Время меняет лексикон.
Когда-то ей стало интересно, была ли в жизни матери любовь. Такая, чтобы жить не собой и своими ощущениями, а перелиться в любимого так, что все мысли, ощущения, желания становятся одним и неразрывным целым. Перелиться – и не уставать от этого единения; было такое у нее? Если было, то с кем – не с Сержантом ведь?.. Ольга усмехнулась. С ее отцом, загадочным растратчиком Кириллом? Как она его называла – Кирюша? Кирилка? Они с матерью никогда не вели задушевных бесед, она всегда оставалась для Ольги загадкой. Запертый ларчик с потерянным ключом, и что внутри, пожелтевшие любовные письма (из тюрьмы, с подписью: «твой Кирилл»), фотокарточки, а то, может, давно не нужные мелочи, которые жалко было в свое время выкинуть: вышедшие из моды шелковые воротнички, сломанная расческа, флакончик с засохшим лаком? Или этот ларчик пуст?
Идти по сырому песку было приятно и легко. Волны окатывали ступни – и тут же отступали назад, оставляя на песке маленькие, с ноготь величиной, белые и розовые ракушки и пряди водорослей. «Русалка причесывалась», – говорила бабушка, когда они с маленькой Лелькой гуляли у воды. Здесь, Лелька знала, происходит все самое чудесное. В море царевич купает коня, в море живет золотая рыбка, в море скрывается янтарь, а кто найдет, тому будет счастье. Давным-давно Максимыч обещал свозить ее на море – поискать янтарики, но прагматичная Лелька надеялась, что и золотую рыбку можно будет покликать. Она ждала, когда Максимыч забудет про свою язву, чтобы они взяли ведерко и поехали. «Надо, чтоб она про меня забыла, Лельця», – говорил прадед. Обещал свозить, но не успел: умер. Янтарики Лелька искала с бабушкой – и находила изредка, даже если это был не янтарик, а просто отшлифованный морем осколок пивной бутылки. Золотую рыбку кликать не пыталась, душой понимая, что без «старче» – Максимыча дело это провальное. «У речки два берега, а у моря только один, правда?» – спросила она бабушку и была потрясена, узнав, что второй берег есть, а как же. На осторожный вопрос, что там, на другом берегу, бабушка сказала: «Швеция». – «Если плыть все прямо и прямо, то приплыву в Швецию?» Оказалось – да, именно так; только эта Швеция очень далеко. Плыть с ней вместе бабушка наотрез отказалась, к тому же взяла с Лельки обещание, что та не поплывет одна. Второй берег отнял было у моря долю загадочности, но ненадолго, потому что были ведь дикие лебеди, которые должны перелетать море, с одной только остановкой на маленьком утесе, а летели они в прекрасную страну; не в Швецию ли?
Ольга шла все быстрее. Бесшумно катили велосипедисты, обгоняя идущих, оставляли на песке ровные узорчатые следы шин, похожие на переплетенных змей. То там то здесь группками сидели дети, набирали полные ладони жидкой светло-коричневой каши и «выплавляли» дворцы, стены, крепости. Некоторые собирали ракушки, похожие на миниатюрные веера, и выкладывали ими дорожки и переходы в только что отстроенных дворцах – точь-в-точь обындевевшая брусчатка. Где-то живет тот мальчуган, который возводил дивной красоты замки с башенками и часовыми; кем он стал, архитектором?
Легкие от морской воды ноги совсем не ощущали пройденного расстояния. Море отпускало неохотно: ближе к дюнам, где песок был сухим, ноги уходили в него по щиколотку. Справа стало видно солнце, медленно погружающееся в воду. Теперь под ногами были деревянные мостки, похожие на клавиши ксилофона. Песок, высыхая, осыпался, и только подошвы оставались облепленными, как сырники мукой.
Ветер, похоже, добрался до перрона, потому что жасминовых лепестков почти не осталось. Только под отцветающими кустами они лежали, словно тающий снег.
Обе женщины, не сговариваясь, повернули в сторону, противоположную Ботаническому саду.
Первой заговорила Анна Яновна:
– Я бы, Лорочка, и сейчас работала, мне не тяжело совсем. Года три назад хотела вернуться, так невестка в обиду, чуть не плачет: вам что же, в земле копаться приятней, чем за родным внуком присматривать?
Крутой подъем улочки вел к старому парку. Парк давно зарос, одичал, и только высокая полуразрушенная арка да несколько замшелых постаментов от неизвестных скульптур напоминали о том, что когда-то здесь был архитектурный ансамбль. В центре сохранился большой пруд. Двое подростков кидали с берега в воду камни, громко перекрикиваясь.
Женщины медленно двинулись по дорожке, обвивающей пруд.
– Хорошо здесь, – Анна Яновна обвела взглядом парк. – Как будто и не в городе вовсе, машин не слышно.
Шли молча, потом она сказала, словно продолжала с кем-то спор:
– Вы не подумайте, она человек-то хороший, невестка моя. Молодая; хочет все по-своему. Вам, говорит, мама – она меня мамой зовет, – семьдесят стукнуло, зачем вам работать? А что мне тоже хочется одной побыть, так они не понимают.
– А я думала, вы… – Лариса растерянно осеклась.
– Вдова всегда старше, Лорочка, – спокойно кивнула Анна Яновна. – Когда мы с вами познакомились, ваш супруг был жив и здоров. Так и повелось, что вы меня по имени-отчеству звали.
Разговор быстро завис, но напряжения не чувствовалось. Что ж, давно не виделись, общих знакомых раз-два и обчелся; беседа неизбежно вернулась к началу.
– Она добрая, – словно раздумывая вслух, продолжала Анна Яновна, – только терпения у нее не хватает. А еще, чтобы добрым быть, нужно места побольше, тогда никто не вызверивается друг на друга.
Она помолчала, потом перевела разговор:
– В деревню часто ездите?
Лариса призналась, что за время болезни соскучилась по хутору. Сказала и подумала: какое пустое слово – «соскучилась»; на самом деле, по-настоящему истосковалась по старому дому, по дереву у крыльца, по скрипучей лестнице… Повинуясь внезапному импульсу, предложила Анне Яновне приехать на хутор погостить.
– И работа для вас найдется, если соскучились, зато привезете домой свежих овощей с огорода; а?
Они подошли к скамейке, вымытой недавним дождем и уже просохшей, и сели. Поверхность воды была рифленой, как стиральная доска, и ненастоящие эти волны двигались тоже не по-настоящему: не набегали друг на друга, а плыли медленно, от этого кружилась голова. Пруд напоминал большое блюдо с краями из замшелых камней; берега заросли ярко-зеленой ряской. День был влажный, и неяркое солнце просачивалось сквозь дрожащий воздух. Ивы у пруда стояли в дымке, и стволы дальних деревьев, казалось, не росли, а струились в золотисто-сизом тумане.