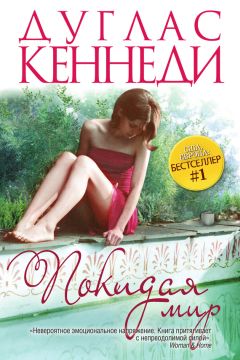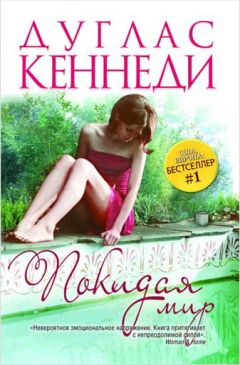Я спросила, с кем еще он посоветовал бы мне поговорить.
— Ну, например, с Ларри Корсеном, хоть мне и не нравятся святоши, гладкие, будто крупье из Лас-Вегаса, если вы понимаете, о чем я.
— Удачное сравнение. Может, я его у вас позаимствую.
— Только если не станете на меня ссылаться.
— С кем-то еще стоит побеседовать? — спросила я.
Пул отрицательно покачал головой и добавил:
— Если поговорите с народом в городе, вам любой скажет, что Джордж виновен, и сомневаться нечего… тем более что его женушка теперь поладила с боженькой. Но я сомневаюсь. Я очень сомневаюсь.
Уходя, я поблагодарила Дуэйна за уделенное мне время и спросила, как проехать к дому Макинтайров.
— Это тут рядом, через две улицы, — объяснил он. — Да вы сразу увидите, там перед входом телевизионные фургоны припаркованы. По-моему, эти стервятники ждут момента, когда обнаружат тело Айви, чтобы заснять, как Бренда бьется в истерике.
— Когда мать теряет ребенка… — услышала я собственный голос и опустила голову.
— Уж я-то это понимаю! Дня не проходит, пока мой парень в Афганистане, чтобы я об этом не думал. О том, как… если… хватит ли у меня сил…
Он снова начал изучать свой кофе.
— Мне кажется, я слишком много наговорил.
Распрощавшись с Дуэйном, я немедленно отправилась в «резиденцию» Макинтайров. Как и говорил Пул, найти дом оказалось просто. Снаружи у дома были припаркованы пять больших фургонов — передвижные телевизионные станции. Вокруг тусовались операторы и звукорежиссеры всех мастей, они переговаривались, курили, пили кофе из бумажных стаканчиков, вид у всех был усталый. Позади виднелся небольшой обветшалый дом. Крышу давно пора было подновить, да и крыльцо нуждалось в ремонте. На веревке сохло выстиранное белье, затвердевшее на морозе. В палисаднике перед входом красовался проржавевший допотопный автомобиль. Подобная картинка — а увидеть ее можно в любом рабочем районе по всей Северной Америке — служит ярким свидетельством социального неблагополучия, низкого уровня образования и полного отсутствия надежды на то, что жизнь наладится. У бедняги Джорджа Макинтайра не было шансов. То, что поведал мне Дуэйн Пул (а до него Мисси Шалдер), рисовало портрет человека, постоянно пребывавшего в домашнем аду. Мне припомнились собственные жизненные перипетии, сначала с родителями, потом с Тео, то ощущение беспомощности, когда опускаются руки, когда кажется, что вокруг тебя одни предатели. Джордж Макинтайр негодовал на окружающих и пил. Я негодовала на окружающих и делала вид, что справляюсь с ситуацией, отрицая таким образом свою депрессию. Джордж Макинтайр потерял ребенка. Я потеряла ребенка. Пусть детали наших трагедий сильно различались, нас объединяло одно: обоих бесила несправедливость других людей. И это уничтожило самое важное, что было в жизни каждого из нас.
Я колесила по Таунсенду еще с полчаса. Снова проехала мимо школы. И обратила внимание на полное отсутствие каких-либо зажиточных или хотя был мало-мальски приличных домов. Эта местность не была отмечена признаками богатства. Я зашла в крохотный ресторанчик выпить кофе. Сидя у барной стойки, я попробовала завести разговор с обслуживавшей меня женщиной с каменным лицом.
— Жалко эту девочку, Макинтайр, правда? — спросила я.
— Угу, — буркнула она, окинув меня подозрительным взглядом.
— Вы ее знали? Или кого-то из ее семьи?
— Кто не знает Макинтайров!
— Хорошие они соседи?
— А вы небось журналистка?
— Может быть.
— Какой-то неопределенный ответ.
— Да, я журналистка.
— А, ну тогда вот что: я вам больше ничего не скажу.
— Я просто делаю свою работу, — сказала я.
— А я делаю свою — занимаюсь своим рестораном и не отвечаю на ваши вопросы. Джорджу Макинтайру и без вас сейчас проблем хватает…
— Это ведь тоже своего рода ответ, а?
— Вы пытаетесь передернуть мои слова?
— Совсем нет, но по тому, что вы сейчас сказали, мне показалось, что вы не считаете Джорджа Макинтайра олицетворением зла.
— Я не буду поддерживать этот разговор.
— Он что, правда был таким дурным, как пытаются представить газеты?
— А вам-то что? Вы тоже на их стороне.
— Я ни на чьей стороне.
Позади нас раздался голос:
— Бренда Макинтайр — святая женщина.
Обладательницей голоса оказалась женщина лет сорока, полная, одетая в коричневую униформу из синтетики, какую заставляют носить служащих супермаркетов «Сэйф вей». Взглянув на эту форму, я немедленно вспомнила, что и сама Бренда Макинтайр носит такую же.
— Вы с ней из одной церкви? — обратилась я к женщине.
— Она из Ассамблей, а я — из Церкви Христа. Но мы обе из тех, кого коснулась десница Господа. И мне доподлинно известно, как страдает сейчас Бренда, но у нее есть ее вера, и вера поддерживает ее.
Из-за стойки послышался голос хозяйки:
— По-моему, ты уже достаточно сказала, Луиза. И мне кажется, нам нужно попросить гостью допить свой кофе и покинуть нас по-хорошему.
— Я просто хотела помочь, — протянула Луиза.
— Спасибо вам, вы очень помогли, — сказала я.
— Не забудьте, вы мне должны доллар двадцать пять за кофе, — напомнила хозяйка.
Когда я выходила, у меня зазвонил мобильник.
— Нэнси Ллойд? — произнес голос, уже хорошо знакомый мне благодаря многочисленным теле— и радиоинтервью. — Говорит преподобный Ларри Корсен. Вы сейчас, случайно, не в Таунсенде?
Как он узнал… или просто догадался?
— Да, я на самом деле здесь.
— Хм… правда, день у меня очень загружен, и не только из-за бедной малютки Айви Макинтайр. Но я мог бы уделить вам пятнадцать минут, если подъедете в церковь прямо сейчас.
— Благодарю, — отозвалась я и торопливо записала под его диктовку, как ехать.
Я могла бы этого не делать, потому что уже видела: церковь Божьих Ассамблей располагалась в самом конце того проулка с авторемонтными мастерскими. Это было скромных размеров здание, сооруженное из красного кирпича и внешне напоминавшее закусочную сети «Международный дом блинчиков». Справа от главного входа висел большой плакат размером с рекламный щит, изображавший пару одетых с иголочки, подчеркнуто благопристойных, подчеркнуто белых родителей лет тридцати пяти, обнимавших двух одетых с иголочки, подчеркнуто благопристойных, подчеркнуто белых детишек (мальчика и девочку, разумеется) лет девяти-десяти. Сердце у меня сжалось от щемящей грусти, которая всегда охватывала меня при виде родителей с детьми — неважно, нарисованных или настоящих. На этот раз, правда, тоска оказалась менее острой — уж слишком приторно-умилительно выглядела эта «глянцевая» семейка… что уж говорить о слащавой надписи вверху: «Божьи Ассамблеи Таунсенда — здесь чудесным образом исцеляются любые семьи!»
Уж не так ли, как была «чудесно исцелена» семья Макинтайров?
Я оставила машину на просторной парковке — ее внушительные размеры говорили то ли об успешной пастырской деятельности Корсена, то ли о его неуемном, ни на чем не основанном оптимизме. Ближе к церкви был припаркован большой новенький «лендровер-дискавери». Я догадалась, что автомобиль принадлежит Корсену, тем более что на претенциозных номерных знаках вместо цифр было вытиснено слово «ПРОПОВЕДНИК». Двери в церковь были открыты. Я вошла. Вестибюль пестрел фотографиями в натуральную величину — портретами счастливых прихожан, большинство из которых тоже выглядели так, будто подрабатывали фотомоделями в каталогах модной одежды. На каждом плакате красовался какой-нибудь девиз: «Божественная любовь покоряет всех!», «В Ассамблеях Таунсенда мы все едины!» — и, наконец, всего два слова: «Хвала Господу!» Здесь же стояли ящики для пожертвований, над которыми тоже висели изречения: «Жертвовать — вот истинная радость!» и «ОН всегда готов прийти тебе на помощь!» Я никогда не бывала в странах Восточной Европы в коммунистическую эпоху — в силу малого возраста, но мне представилось, что там в общественных местах, наверное, были повсюду развешаны воззвания, призывавшие покорное население: «Выполним пятилетний план в четыре года!»
Вот только едва ли восточноевропейские аппаратчики могли позволить себе одеваться так, как Ларри Корсен. Он, должно быть, услышал, как я вошла, потому что почти сразу выглянул в вестибюль. На нем были шоколадного цвета кардиган, фиолетовая рубашка с пасторским воротничком-стойкой, слегка расклешенные синие джинсы и (видимо, как напоминание о том, что мы находимся в Альберте) начищенные до блеска черные ковбойские сапоги. На вид ему было слегка за сорок, густые светлые волосы тщательно уложены, а зубы — это я заметила еще раньше, увидев его по телевизору, — очень белые. Он заговорил звучным, умиротворяющим голосом: