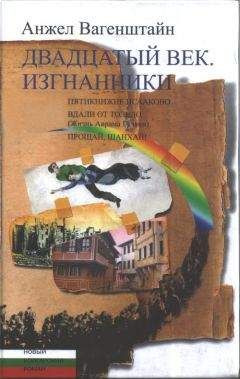— Вот так, босиком, мы ступаем по раскаленным угольям жизни!
Мгновенье, и с моста Александра III дождем посыпалась обувь отчаявшихся, потерпевших поражение защитников Испанской Республики — им тоже захотелось босыми ногами ступить на раскаленные угли жизни.
С берега, откуда-то из-под моста, донеслись крики удивленных бродяг, парижских клошаров:
— Эй вы там, вы что, психи?
— Да, а что? — отозвался кто-то из компании.
— Раз психи, спускайтесь к нам!
— А выпить у вас найдется?
— Найдется, если у вас есть курево.
Сделка состоялась. Бутылка дешевого вина переходила из рук в руки, а воды Сены мягко светились, отбрасывая солнечные блики на своды моста, под которыми нашли приют бездомные бродяги и вернувшиеся с фронтов гражданской войны молодые compañeros.
Шел третий час утра, когда кто-то запел «Марсельезу». Очевидно, настало время штурмовать Бастилию.
— Я устала… — смущенно прошептала Хильда, на революционные подвиги у нее уже не оставалось сил.
Владек взял ее за руку и, никем не замеченные, они поднялись по крутой каменной лестнице на мост.
— Где ты живешь? — спросил он.
Она беспомощно оглянулась.
— Далеко, в Иври.
— На последний поезд метро ты опоздала, первый еще не скоро. Давай не будем тратиться на такси, переночуешь у меня. Я живу недалеко. Правда, мансарда тесновата, ну, да ничего, в тесноте, да не в обиде. Или боишься?
— Нет, не боюсь, — храбро сказала Хильда.
— Вот и правильно: мы на пьяных женщин не набрасываемся.
— Я не пьяная!
— Пьяная, да еще как. Трезвые не бросают туфли в реку.
— Это ты их бросил.
— Правда? Ну, это детали.
Взявшись за руки, они босиком перешли на другую сторону безлюдного в этот час моста.
12
Хильда так и осталась жить с этим странным молодым человеком, который продолжал скрывать свое настоящее имя и национальность. Но с ним она почему-то чувствовала себя защищенной, а кроме того, его беспечность и легкомыслие — возможно, напускные — были заразительны. Нравилось ей и то, что он не выносил ее немецкого имени и называл ее Röslein — Розочка. Она понятия не имела, на что он живет и чем собирается заниматься в Париже. Во всяком случае, ей было ясно, что он тоже чего-то ждет, но вот чего — даже не решалась спрашивать. Тем более, что заранее знала: от серьезного ответа он уйдет, как всегда отшутится, заболтает.
Только раз, уютно свернувшись калачиком в его объятиях, она осторожно задала ему вопрос, которым давно мучилась:
— На каком языке вы разговаривали тем вечером в ресторанчике?
— На португальском, — без колебаний ответил он.
— Да уж, прямо! Это был какой-то славянский язык.
— Неужели? — удивился он. — А я всегда думал, что он португальский.
Она собралась было выложить ему свои лингвистические сомнения на этот счет, но он закрыл ей рот поцелуем.
В киношке недалеко от дома они смотрели «Пепе ле Моко» с Жаном Габеном. Перед фильмом показывали еженедельную кинохронику, в которой все еще пережевывалась испанская тема. Выходя из кинотеатра, она спросила:
— Ты, случаем, не анархист?
— Нет, — ответил он. — Я полиглот.
Очевидно, это была не вся правда. Всю она узнает значительно позже, но к тому времени вообще перестанет задавать вопросы.
Прошла почти неделя с тех пор, как Хильда перебралась к молодому человеку, по имени Владек.
В тот день она вернулась домой в обнимку с большим бумажным кулем, в котором были хлеб, бутылка вина, два сырых бифштекса и салат. Вести хозяйство стало ее обязанностью, а ее загадочный покровитель значительную часть дня проводил вне дома, занимаясь своими загадочными делами.
Хильда поднялась в мансарду по винтовой лестнице. Такими были лестницы в половине парижских домов: старых, запущенных, без удобств. Дверь их маленького жилища оказалась настежь распахнутой. Она позвала «Владек!», но, не получив ответа, осторожно заглянула внутрь.
Там царил полный хаос: белье разбросано по всей комнате, зияют выдвижные ящики, все усеяно бумагами, матрас, на котором спал Владек, отброшен в угол, а морская трава из него выпотрошена. Даже маленький чемоданчик, с которым она приехала из Германии в трехдневную командировку, валялся с откинутой крышкой и вспоротой подкладкой. Как будто через маленькую мансарду промчался тайфун, сметая все на своем пути.
Хильда стояла в дверях, оцепенев, все еще обнимая бумажный куль с продуктами и не понимая, что тут произошло.
Позади послышалось тяжкое пыхтение грузной консьержки, которая с трудом карабкалась по крутым ступеням.
— Et voilà, mademoiselle! Какие же они идиоты, эти фараоны. Все вверх дном перевернули!
— Фараоны?
— Ну, полиция!
— А что им было нужно? — сдавленно спросила Хильде.
— Да разве они скажут? Как я поняла, молодой человек сбежал то ли из лагеря для военнопленных, то ли еще откуда-то. У бедняги даже документов не было. Его увели и все… Не верится, чтобы он был вором или преступником. Такой воспитанный и симпатичный!
Консьержка явно слегка лицемерила — во всем мире ее профессия предполагает тесное сотрудничество с полицией, а не солидарность с жильцами, которыми эта полиция интересуется. Отдышавшись, она деликатно поинтересовалась:
— Вы комнату за собой оставите или как? Спрашиваю, потому что сегодня заходил мсье Леблан. Сказал, что перекроет вам газ и свет, потому что за квартиру вы не платили уже два месяца, так что…
— Нет, здесь я не останусь, — убежденно сказала Хильда, хотя понятия не имела, куда ей теперь податься. Наверно, обратно в ту гостиничку с почти закатившейся второй звездой. — Сколько вам задолжал мсье?
— Сто девяносто два франка, мадмуазель.
Хильда вынула две сотенные купюры из своего отощавшего кошелька и протянула консьержке: — Сдачи не надо.
— Спасибо, мадмуазель… Вы уж извините, но…
Она с опаской оглянулась на лестницу и, не обнаружив никого, кто мог бы ее подслушать, спросила:
— Простите, а может быть так, что мсье — немецкий шпион?
— Что вы! — ответила Хильда. — Он полиглот.
Преисполнившись сочувствия, женщина понимающе кивнула.
13
Две рикши катились по бульвару Шусань в опасной близости друг к другу. Везущие их босые кули ритмично шлепали по влажному асфальту. Они умело маневрировали в левостороннем потоке транспорта — англичане и здесь навязали свои правила, — состоявшего, главным образом, из таких же рикш, велосипедов и изредка автомобилей. В одной рикше сидел, развалившись и по-барски закинув ногу на ногу, молодой китаец в белом чесучовом костюме, белой панаме и белых штиблетах. Он обмахивался тонким шелковым веером. Вторая рикша везла его багаж — большущий кожаный чемодан, чуть ли не сплошь обклеенный, как того требовала тогдашняя мода, рекламными наклейками знаменитых во всем мире отелей и курортов. Как правило, хозяин такого чемодана и не нюхал этих престижных мест, а просто придавал себе важности, намекая на свое якобы высокое социальное положение. Но на шанхайцев это давно перестало производить впечатление: сюда ежедневно прибывали богатые китайцы-бизнесмены из Бирмы, Суринама, Макао. Да и американские китайцы не были редкостью. Сколотив какое-никакое состояние в многочисленных барах, ресторанах, тайных и явных публичных домах и игорных притонах чайна-таунов Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, они приезжали на родину предков в надежде раскрутить какой-нибудь прибыльный бизнес.
Кули грузовой рикши на ходу с любопытством поглядывал на пассажира своего коллеги. Ну и времена настали, мать честная! Мужчины обмахиваются пахучими дамскими веерами из сандалового дерева с шелком, как какие-нибудь генеральские наложницы. А женщины взялись за мужские дела, шляются по кабакам и даже воюют. Девочкам перестали, как в прежние времена, туго стягивать ступни и втискивать их в деревянные колодки, так что невесты теперь не ковыляют по-воробьиному. Если уж по-честному, то оно и к лучшему: традиция традицией, но с возрастом женщинам становится все труднее передвигаться на своих культяпках, и молодым приходится носить их к храмам, взвалив на спину. Уж мне ли не знать, что такое старая женщина со стопами-культяпками! Разве я не носил мать на собственном горбу к пагоде в Лангхуа, чтобы она могла там потратить чуток денег, возжигая благовония? Но в те времена мужчины были мужчинами, а китайцы — китайцами. Они с детства знали, что белый цвет — цвет траура, цвет смерти, и соответственно одевались. А этот вырядился во все белое, словно у него мать умерла, а сам по-барски развалился и весело глазеет по сторонам, как будто она жива-здорова, тьфу!
Такой вот воображаемый диалог вел оборванец-кули с важным господином в белом костюме из шелковой чесучи и даже беззвучно шевелил губами, продолжая бежать ровным, широким шагом параллельно с другой рикшей. А господин обмахивался веером, даже не подозревая о своей центральной роли в драматической дискуссии о временах и нравах.