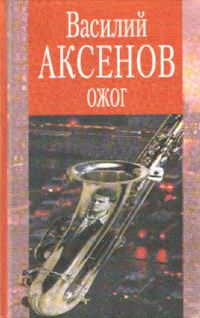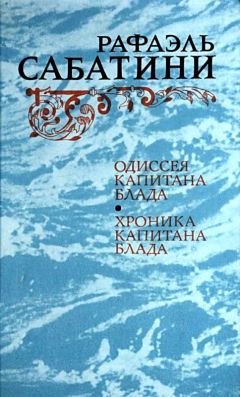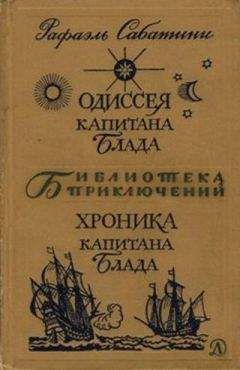– Это ты сам и выдул, дадди Самс! Мы тебя «чернилами» отпаивали, вот ты и ожил! Где твоя завязка? Давай развязывай? Ну ее на солуп, твою завязку! Пусть зимбабве себе концы завязывают!
– Правильно, – сказал Самсик, – пусть они завязывают, а мы развяжем, потому что у нас ноги, как змеи, а торсы богов, а головы кентавров. Пусть зимбабве жрут свою тыквенную кашу, а мы будем чернилку глотать в знак солидарности!
Откуда только взялось прыти? Он вскочил и отбежал в середину бойлерной. Поднял бутылку над головой и в последний раз окинул взглядом милую картину: друзей и женщин с пшеничными волосами и своего маленького непримиримого золотого дружка со следами запекшейся вражьей крови, свернувшегося, как божий эмбрион, на цементном полу. – Самсик, не пей, дурачок!
Он отвернулся и стал тянуть химический гнусный «портвейн». Перед глазами у него теперь тихо пошевеливал ободранной асбестовой шкурой могучий, но спящий до поры до времени змей Зимбабве.
Куча разноцветных котят на зеленой мокрой траве
В пятидесятом отделении милиции, так называемом «Полтиннике», что в самом центре столицы, давно привыкли к обслуживанию самых неожиданных клиентов. Бывало, что и депутатам пиздюлей подкидывали, если позорили звание «слуг народа». Ночная дежурная команда обычно никаким красным книжечкам снисхождения не делала а просто распихивала всех алкашей по камерам, если мест в вытрезвителе не было, – утром разберемся, какие вы гениальные.
Пятеро, которых привезли в ту ночь, не скандалили, а мирно волоклись по коридору: кто насвистывал, кто напевал кое-что, иные болтали обычное, антисоветское. В районной вытрезвилке мест, конечно, не было. Пролетарский и Ленинградский районы в приеме клиентов отказали. Всех пятерых запихнули до утра в изолятор для особо опасных, хотя, повторяем, ничего особого в этой пятерке не было. Сержанту Чеботареву велели приглядывать. Раза два или три он открывал дверь в изолятор, прислушивался к бормотанию.
Ситуация была вполне обычная: один жаловался на предательство, другой на бабу, третий на вспомогательную народную дружину четвертый изобрел, видите ли, ужасное оружие, а пятый оживил палача. Нормально.
Утром все пятеро мирно курили и рассказывали друг другу сновидения. Оказалось, что все они видели в ту ночь один и тот же сон – кучу разноцветных котят на зеленой мокрой траве. Вначале вроде бы как из окна, потом как бы с птичьего полета, потом все выше, выше, все мельче, мельче, все выше и выше, все мельче и мельче…
КНИГА ТРЕТЬЯ ППП, ИЛИ ПОСЛЕДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО
Иль сон, где, некогда единый -
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.
Владислав ХодасевичОн (или я?) заходит в магазин «Суперсам». Смысл этого слова ему, как и всем прочим гражданам, не особенно ясен: суперсамсон? суперсамолет? суперсамец?
Первое, что бросается в глаза, – большие штабели мыла. Хозяйственное, туалетное, сульсеновое, витаминное, хвойное, пальмовое, ананасное… чрезвычайное изобилие! А ведь были времена, когда за кусок мыла ставили к стенке! Человек всегда любил чистоту, обладал законным правом на кусок мыла и потому незаконного владельца своего мыла частенько ставил к стенке.
С мылом связаны трагические детские воспоминания. По улицам двигалась тюремная фура для собак. Собаки совали свои милые носы в решетку, стремясь перед тем, как превратиться в мыло, насладиться воздухом любимых помоек.
– Собак везут на мыло.
Да сколько же надо собак, чтобы соорудить такие горы затоваренного мыла! Дазаебись она, ваша гигиена, если для нее надо истреблять чудесных прыгучих созданий с крутящимися хвостами! Такие мысли посещали не одного мальчика до развития нашей могучей химической промышленности. Да и сейчас, между прочим, мы, зрелые люди, помним: бесснежная мусорная зима, гнусный несъедобный тыловой мусор, запах ихтиола, колкость за воротником, жалобный вой из зарешеченной фуры…
Порядок в суперсамсонах такой. Вы входите. Желательно сразу произвести приятное впечатление на телесоглядатая. Ну, улыбнитесь, ну, насвистите что-нибудь эдакое, ну проявите вроде бы некоторую рассеянность, как будто вы и не вор. Свою ношу вы сдаете в специальную секцию, чтобы не перепутать потом с ворованным, получаете жетон. Берете проволочную тару и скрываетесь в лабиринтах американских прилавков. В сетку для отвода глаз бросаете кусок мыла «Кармен» образца 1898 года (ровесник русской трехлинейной винтовки), но в секции детских игрушек берете огромную резиновую рыбу, выпускаете из нее воздух, затычку прячете себе за щеку, а плоскую рыбу – себе под свитер. Спокойный, чуть отяжелевший (рыба же на животе же) пересекаете кассовый барьер, где платите за одно лишь мыло, а о рыбе умалчиваете. Вы скажете – риск? Да, риск есть, но не такой уж и большой. Гораздо опаснее, например, ездить на мотоциклах.
…Погоня была яростной, как будто он не резиновую рыбу украл, а что-нибудь съестное. Никогда не предполагал за собой таких спринтерских данных. Всем спринтерам врачи-психологи должны внушать, что они украли рыбу. Спринтер должен выходить на старт с ощущением, будто он только что украл в суперсамце огромную резиновую рыбу.
И вот я в полной безопасности на Цветном бульваре. Идиллическая обстановка. Старая Москва. Передо мной переулок, подымающийся по горбу к Сретенке. Вниз идет крошка. Она, конечно, не откажется от рыбы.
– Крошка, иди сюда! Хочешь рыбу?
Что это я шепелявлю? Ах да, затычка во рту! Вдвоем с крошкой мы надуваем рыбу и вбиваем ей под хвост затычку. Плыви, крошка, и вспоминай изредка вороватого дядю.
Напрасно ко мне приглядываются прохожие, должен их огорчить, я не вызываю никаких подозрений, в отличие от
крыши овощного магазина, который боком выпирает в переулок. Крыша этого дома, в котором в промежутке между овощными периодами, кажется, было что-то не овощное, теперь вызывает серьезные опасения. Внешне не отличаясь от сотен других крыш и имея даже кота возле трубы, она между тем таит в себе опасность для всего нашего образа жизни.
Эге, да она уже вздувается! Жесть выгнулась горбом и сейчас треснет по швам. Какая разница – буду я смотреть туда или не буду? Он все равно вылезет оттуда, потому что растет, потому что с годами ему там становится тесно. Но все-таки лучше туда не смотреть. Лучше почитать «Советский спорт». Опять продули – говнюки! Лучше подумать о собаках, о бессмертной Муму. Почему бы не написать рассказ под названием «Как я переписывал Муму»? В этом рассказе можно многое сказать. Сказать кое-что о большой культуре России, конечно же недоступной народам других стран. Некоторые народы мира страдают космополитизмом, другие национализмом. Мы не страдаем ни тем, ни другим. Написать, что ли, о нашем здоровье? Однако рассказ не пропустят без хорошей дозы марксизма, этого исконно русского недуга. Для чего же писать тогда рассказ, если его никто не прочтет? Для души. Сделаю из рассказа бумажный комок и запихну его в пасть Лесючевскому, авось подавится. Не подавится – проглотит! Нет смысла писать рассказы – Лесючевский вкупе с Полевым глотают их, словно хорошие акулы табуретки. Надо просто посидеть здесь и подумать о Тургеневе. А туда не смотреть.
Можно, между прочим, перебежать бульвар и юркнуть в кафе. Там не только ведь молочное едят. Там можно подзарядить аккумуляторы. В окне видна полукруглая стойка, за ней тетка в белом халате, над ней прорва коньяку. Один грамм коньяку стоит 1,6 копейки. Пересчитай-ка свою наличность.
«Паркером» на песке он сделал умножение – денег было на 3578,5 грамма коньяку. Солидность суммы приятно пора шла его и сделала всю обстановку более спокойной. Он встал и солидно пошел в кафе.
По дороге не удержался, бросил все-таки взгляд на тревожный перекресток, на опасную крышу. Нечего нагнетать страхи – там ничего особенного не произошло. Крыша овощного магазина действительно лопнула, но не по швам, а звездообразно. Над крышей поднимались круглые мраморные уши, но это было совсем не страшно. Если немного здесь постоять, можно будет увидеть и глазки. Да вот они и появились, маленькие сонные глазки безобидного существа.
Плывут облака. Грачи прилетели. Асфальт подсох. Прохожие наслаждаются теплой атмосферой. Над крышей старенького дома в переулке поднимается простое рязанское лицо. Я зашел в кафе и громко спросил:
– Никогда не видели мраморного динозавра?
Ответом было молчание. Публика ела пищу: кто борщ, кто битки, кто сливки с тертым орехом. Я прошелся по кафе, заглядывая в лица, пытаясь понять, есть ли у кого-нибудь интерес к таким явлениям, как мраморный динозавр, вылезающий из овощного магазина. Не добившись ответа на свой вопрос, я приблизился к стойке, облокотился на нее, как будто где-нибудь в Париже, и показал буфетчице на бутылку самого дорогого.