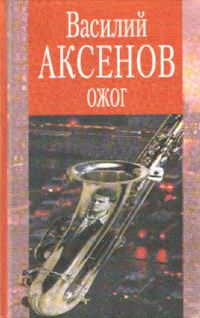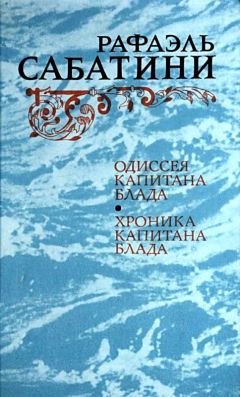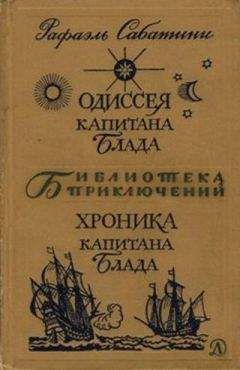– Вместо того чтобы вызвать кого следует, вы ему наливаете, – сказал голос из пищевого зала.
– А вам не касается, – сказала буфетчица в пищевой зал. – Мне плотят, я наливаю. Вам касается кушать.
Она с величавостью, свойственной русским буфетчицам, поставила передо мной коньяк.
– Вот чудак, – сказал я буфетчице. – Думает, что я какой-нибудь провокатор. Вы местный житель и, конечно, знаете, что я имею в виду мраморного ящера в том доме, где когда-то жил скульптор. Кстати, где этот бедолага? Отчалил?
Я прихлебывал коньячок и поглядывал в большое окно, за которым плыл сероватый уютный денек с умеренным ветром, с приятно оживленными прохожими. Там развевались длиннейшие ярчайшие шарфы. Проехал ярко-зеленый автобус с надписью «Дюбонэ».
– Приятно, месье? – спросила буфетчица. – Не правда ли, приятно?
– Приятно ли? Не отрицаю – приятно, но спасения, мадам, надо искать не здесь, а глубоко в сердце России, еще не тронутом порчей. Знаю, вы скажете, Суэцкий канал, нефтяное эмбарго, «Конкорд – Ту-144»… Многое лежит между нами, но я все-таки рискну рассказать вам свою нехитрую
историю.
У меня была любовница из белоэмигрантской семьи. Мы вместе сражались в Африке за человеческие жизни. Да, так бывает, мадам, белое розовеет, красное выцветает. Они жаждут революции, мы алкаем величия. Компромисса не будет, сколько ни добавляйте синьки! Мы встречались в течение девяти лет раз в три года. Теперь выяснилось, что Маша родила мне трех детей. Я и приехал сюда не для борьбы за мир и не для коммерции, а просто деток повидать. Ву компренэ?
– Закрываемся, – сказала буфетчица. – Обеденный перерыв.
– Справедливо, – согласился я. – Повару ведь тоже надо покушать.
– Это хорошо, что вы так говорите, – сказала буфетчица, – а есть такие, что без понятия.
– Конечно-конечно! – вскричал я. – Многие думают, что Фима из еды и не вылезает, а ведь это и на вас, Софья Степановна, бросает тень как на законную супругу.
Буфетчица от такого неожиданного понимания расстрогалась и предложила мне провести у них обеденный перерыв.
– Однако, мадам, вы не посягаете на мою личную свободу?
– Ни в коем случае, да вы не нервничайте. Нервные клетки не восстанавливаются. Фима, дай месье покушать.
Ефим явился, весело, небрежно, любезно – отличный парень! – поставил передо мной блюдо нервных клеток.
Я с удовольствием смотрел на бывшего мясника. Время пошло ему на пользу – такой, знаете ли, handsome man чистый, голова промыта, одет в стиле «сафари». Кухня для него лишь один из способов существования, а может быть, и просто хобби. Главное – отдел драматургии на радиостанции «Свобода», там он ведет еженедельный обзор советских театров.
– Ешьте клетки, сэр. Они не восстанавливаются, а мы их готовим в соусе по-барбизонски.
Вековая культура Франции! Жаровня гасконских цыплят под острым галльским смыслом, слева – океан, справа – сумрачный германский гений. Помните Ла-Рошель? Оттуда и пошло: «Бей своих, чтобы чужие боялись!»
Фима и Софья Степановна нырнули за стойку на обеденный перерыв. Софа там запела, застонала, прямо как девочка, а Фима-молодчик только покрякивал, видно, вырезками парными он снабжал себя по старым связям – капитально!
Я доел мозги и вышел на улицу. Любопытно, как изменился день, пока я прохлаждался в кафе. Из уютного, чуточку мрачноватого рутинного дня он стал чрезвычайно атлантическим и тревожно-прекрасным. По небу летели тучки, облачка, колечки, шарики, газетки, ленточки, прочая фигня. Казалось, что там, за домами, море, написанное Марке.
– Мы будем драться за каждую букву Атлантической Хартии!
Чего только не было здесь, на углу! Старик в кожаном фартуке продавал устриц. Кусочки льда и морская трава в корзинках усиливали и без того чрезвычайную свежесть. В табачном киоске рядом всеми красками спектра сверкали призраки юности – графство Мальборо, округ Винстон, городишко Салем, известный не только ведьмами, но и ментолом. Цветочница, похожая на старую большевичку, предлагала свой товар: пармские фиалки, сенегальские вечные гладиолусы, скоростные бельгийские гвоздики. В витрине мирно висели замшевые штаны, под ними пасся целлулоидовый поросенок. Несколько шкафов-автоматов томились желанием выбросить из своих недр что-нибудь полезное для человека – чуингам ли, пепси, хот-дринк…
В тот момент, когда я вышел на перекресток, по нему проходили моряк, две монахини, командировочный Союзмаш-мехимпорта с женой и другом, а также красивый наемный бандит Ян Штрудельмахер. Не успел я и опомниться, как все эти люди прошли, от Штрудельмахера осталась лишь длинная нога,
по и она в следующий миг исчезла, а перекресток уже заполнили другие – идущие, бегущие, ковыляющие: студентки, одна с красивым бюстом, другая с красивым задом, ветеран с бульдогом, философ Сартр задержался на миг понюхать устрицы, и вот на перекрестке уже появились новые герои моего мгновения: пара рокеров в кожаных куртках, нищий испанец, экскурсия японских школьниц, патер, шлюха, высокий костлявый старик с тремя детьми, большая умная собака… но вот и эти скрылись, а следующие… мне стало чуть-чуть невмоготу.
– Мы будем драться за каждую букву Атлантической Хартии!
Это сказал старик-плейбой, сидевший на крепеньком стуле с витыми чугунными ножками. Он сидел в независимой позе и жадно наслаждался своим сидением на бульваре, жадно наслаждался своим дорогим, скроенным по последней моде костюмом из шотландской фланели, своим цветным фуляром на шее, густыми своими моржовыми усами, своей трубкой, кампари со льдом и каждой буквой Атлантической Хартии. Старик сидел прочно, и вокруг него на витых чугунных стульчиках прочно сидели другие люди. К ним я и двинулся, потому что они не пропадали. Кто-то махнул мне из дальнего края Парижа. Это был, должно быть, Хемингуэй.
Не знаю, ценят ли французы Хемингуэя и понимают ли, какое очарование придал этот иноземец их любимому Парижу. Были времена, когда весь Париж был мне дорог только потому, что там сидел Хемингуэй. Вот и сейчас на этом бульваре сидели молодые американцы Двадцатых, коны, гордоны и фицджеральды, и придавали Парижу дополнительное, уже совсем сверх всяких сил, внепарижское очарование.
Я подсел к Хемингуэю.
– Хелло!
– Хелло! Многие советские чураются меня. Им кажется, что я не настоящий Хемингуэй, что я секретный советский агент, рядящийся под Хемингуэя.
– Я знаю – вы настоящий.
– Что будете пить?
– Все равно. Лишь бы захмелиться, а то временами возникает чувство нереальности.
Он разлил по стаканам вино, посмотрел на меня и улыбнулся в бороду.
– Как меняются времена! Хорошо, что советские люди теперь стали свободно разъезжать, проводить уик-энд на Гаваях. Третьего дня я встретил в Гонолулу Евтушенко.
– Настоящего?
– Если даже и нет, то удачная имитация.
– Простите, Эрнест, но между писателями в ходу комплименты.
– Да-да, не беспокойтесь, я вам подготовил один. Недавно прочел в «Таймс литерари сапльмент» ваш рассказ «Как я переписывал Муму». Поздравляю!
– Держите ответный, Эрнест! Ваша «Кошка под дождем» перевернула всю мою жизнь. Спасибо вам за тот оверкиль.
В это время на дальнем конце Парижа жадный до жизни старик что-то проартикулировал ртом. Через минуту до нас долетело:
– Мы готовы сражаться за каждую букву Атлантической Хартии!
Я усмехнулся, стараясь представить себя знатоком западного свободного духа.
– Смешной старик, не правда ли?
– Ничуть, – отверг насмешку Хемингуэй. – Я к нему присоединяюсь. Готов биться за все буквы всех алфавитов. Кроме «Щ».
– ?Хем?
– Я люблю русскую литературу, но мне кажется, что даже ваши классики чураются этой странной букашки.
– Ой ли, Хем? Ой ли? А щавель, а щастье, а борщ? В «Записках охотника» нередко можно увидеть этого трехголового сучонка с хвостиком. Отнеситесь к нему теплее, старина! Быть может, ему первому суждено прорваться через железный идеологический занавес.
– Будущее покажет. Я не люблю спорить. – Хемингуэй кивком подбородка отвлек меня в другую часть Парижа. – Смотрите, к вам едут!
По зеркальному асфальту обожравшегося Запада, по чужому миру, не согретому ни Хемингуэем, ни Бальзаком, по миру, сверкающему в разных плоскостях, завивающемуся в узлы, уходящему под землю и взлетающему в небеса, ко мне неуклонно приближалось какое-то родное красное пятно.
Это ехала Машка Кулаго в открытом «Феррари». Нелегко было узнать в элегантной даме прежнюю вечно пьяную девчонку, которая начинала снимать джинсы всегда за минуту до того, как ей делали соответствующее предложение. Милая строгость, грустноватая улыбка были обрамлены драгоценным мехом диких зверей и марокканской кожей дорогого автомобиля. Раскрутившись наконец по всем виткам сверхцивилизации, она въехала в наш старый Париж и затормозила возле нашего чугунного столика.