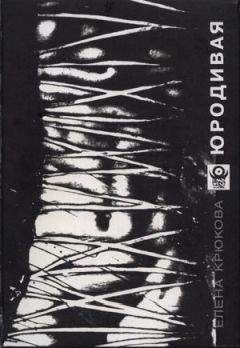Какое счастливое утро! Густо-синее небо, и облака летят сумасшедше быстро, стремительно: такой ветер и тебя унесет. Красота в мире. Последние недели поста. Скоро Пасха. Как ты попала в этот городок, Ксения? Маленький, весь в церквях, купола больно блестят на Солнце, старухи несут в корзинах в храмы святить яйца, сухие яблоки, куличи и конфеты. Блохастые собаки спят на улицах, развалившись, как пьяные купцы. Мальчишки свистят, пугая голубей и девчонок. Так было при Иоанне Грозном. Так сейчас здесь… при мне; и я не помню и не понимаю, зачем пришла сюда. Я просто живу и скитаюсь.
Я ходила по улицам городка и кричала:
Эй, вы, люди! Всех собираю в церкви! Особенно грешников! Тех, кто убил зверя или человека! Не пустят нас в церковь — воссядем на солнечном пригорке! Исус тоже так учил!
Люди покатывались со смеху, гнали меня палками, как собаку, кто-то, жалея, совал в ладошку мне медную монетку. И прибивались ко мне иные. Горстками. Понемногу. Женщины со впалыми щеками, с широкими глазами, в которых застыла вечная боль. Налысо бритые парни, сходные с затравленными волчатами. Угрюмые мужики, убивающие долгим молчанием.
Я повела их всех за собой. На пригорке стояла веселая белая церковь, хохлатая птичка. Там я желала сказать им о прощении. Я хотела простить их всех, и чтобы они тоже себя простили.
Священник, увидев толпу, собирающуюся вплыть в придел, выставил обе руки вперед и заблажил тонким тенорком, пытаясь нас остановить:
— Куда!.. Куда!.. Это ж дом Божий!.. А вы со срамными бесчинствами лезете!..
Я склонила перед ним голову, согнула спину в поклоне.
— Нет дурных помыслов, батюшка. Я лишь хотела людям доброе слово сказать.
— А ты сама кто такая будешь?..
— Я не помню своего имени. Я имярек. И как сюда попала, не припомню. Шла, шла… шла…
— Ну и иди себе дальше. — Он с испугом зыркнул в меня глазами.
Люди, коих я завлекла, окольцевали меня плотно, ждали. Я сама сгребла их в кучу. Каждый из них кого-то убил. Каждый мечтал о снятии с сердца неимоверной тяжести, равной тяжести матери-земли.
— Хорошо, — сказала я тихо, — дом Божий не оскверним мы; значит, пойдем сами себе устроим на вольной воле дом Божий.
И мы отправились в синеву и ярость весны, в апрельское буйство талых великих вод и разлива, березы стояли по пояс в реке, отражаясь в ней, как царевны на выданье, а вот и овраг, крутосклон, давайте воссядем здесь, под лучами вешнего Солнца, как оно славно будет. Сядьте вокруг меня, милые! Родные мои! И я буду говорить вам.
— Вы убили живое?
Вопрос мой громко прозвенел в прозрачном и голубом весеннем воздухе, растаял над синей освобожденной ото льда рекой.
Народ молчал.
— Отвечайте: убили вы живое в жизни своей?
— Ну, убили, — выкряхтел стоявший ближе всех ко мне мужик в мятой и грязной кепке, с черными от цинги зубами и смуглыми страшными скулами, похожими на вывернутые из земли корневища. — А тебе-то что за дело? Или нас явилась спасать?
— Нас уже не спасешь! — радостно завопила молоденькая девчонка с челкой до самых ресниц. — Мы уже конченые! Нас… пора на мясо разделывать! Я вот… знаешь что сделала?!.. Не скажу даже, так страшно… Ребенка… своего…
Ее товарка, мотавшаяся рядом с нею, закрыла ей рот рукой.
— Че городишь…
— Да нет, все тут правда. — Сухопарый старик с белыми космами, развеваемыми ветром, шагнул вперед, ко мне. — Все святая правда. Все убийцы мы. Ни одного тут нет незамаранного. И худо нам, девушка, ох, худо. Нет нам выхода. Ты скажи нам только одно. — Старик облизнул сухие, ввернутые внутрь бескровные губы. — Скажи… есть там… мир иной… или это все сказки, и нам, бедным, всю жизнь голову морочили?.. Ты скажи… ты, должно быть, святая. Ты добрая. А добрые — они все святые. Ты нам на голову свалилась. — Он улыбнулся печально. — И все мы преступники. И все мы избавления хотим.
— И даже тот, кто на войне людей убивал?! — возопила дебелая баба с синей татуировкой на жилистых запястьях. — На войне-то дело правое! Тут уж не до спасенья! Тут свою шкуру надо спасать!
— Не свою, а Родины, — жестко поправил ее лысый мужичонка, слепо щурившийся на яркое Солнце. — У нас на войне нет выхода. И спасения нам нет. Потому как мы людей там убивали? Убивали. А кто на войне не убивал, тот трус и подлец. Так-то.
— Нет, не так! — звонко выкрикнул мальчишка с красным родимым пятном на щеке. — А мой дед на войне был! На Зимней Войне! И никого на войне не убил! Он и поваром был, и при медсанбате! И никого не убил! Никого! И гордился этим! И нам рассказывал: вот, никого не убил я на войне! Так, значит, што… мой дедушка… трус?!
Губы пацана тряслись. Строго спросил его подслеповатый мужичонка:
— А ты сам-то зачем здесь?.. За девкой этой придурошной увязался зачем?..
— Голубя убил, — минуту помолчав, сказал мальчишка, и лицо его налилось кровью. — А потом ощипал и изжарил. На костре.
Люди молчали. Каждый хоронил в себе свое. Каждый глядел на меня, усмехаясь ртом и плача душой. Ждали. На что я способна?
Боже, Боже мой, Господи, сколько бессчетных раз в жизни я делала это… Сколько Ты еще будешь испытывать меня деянием моим…
Сапфир неба раскалялся. Река брызгала в голые, еще без поросли травы, крутые берега золотыми, маслеными, хрустальными искрами. Радостью горела и бушевала земля, пела песню вода, свет лился отовсюду, сверху, снизу, из-под ног, из людских лиц, с небесных сфер.
Я уселась на землю. Свет заливал меня. Я почти ничего не видела из-за белого шара Солнца, висящего надо лбом.
— Пусть все, убитые вами, придут к вам и будут вместе с вами молить Бога о вашем прощении и избавлении, — произнесла я сухими губами.
— Как это?!.. Как это, как это?!.. — зашелестели, заворчали, заколотились люди вокруг меня, закричали, загомонили, но я уже не слышала их криков, их воплей, не видела их лиц. Я совсем ослепла от Солнца. Я видела только Солнце.
Я протянула вперед руки. Поднялся ветер, сильный ветер. Задул людям в грудь. Они шли против ветра, прямо на меня, и падали, сносимые ветром — валились на колени, катались по земле, скатывались вниз к реке по крутосклону, царапали землю ногтями, пытаясь доползти до меня. Я видела как сквозь штормовую волну, как сквозь закопченное стекло. Вокруг меня бешенствовали силы, имени их я не знала; я понимала, что ветер состоит из душ живых, явившихся молиться за своих убийц, пытающихся соединиться с ними, составить одно целое.
— Креститесь! Креститесь! — закричала я сквозь завыванье ветра. — Молитесь за них! Молитесь с ними вместе! Спасите их! Спасите себя!
И люди, преодолевая ветер, ломающий им руки и ноги, стали креститься, вставать на колени. Губы их шевелились. Они понюхали ветер смерти. Они поняли, что испытывали те, кого они убивали когда-то — хладнокровно или в истерике, обдуманно или в припадке слепой ярости. Ветер смерти хотел унести их, они чувствовали это. И чем сильнее поднимался ветер, тем неистовей они молились.
— Милые!.. Родные… — хрипела я, протягивая к ним руки, посекаемые ветром, — я люблю вас… я люблю вас, и они уже любят вас, они уже простили вас!.. и вы любите их, любите их, любите друг друга, любите… любите друг друга… лю…
Ярко пламенел синим огнем круглый кабошон небосвода, вставленный в сверкающую золотую оправу весны. У меня не было имени. У меня не было моей жизни. Я шла и шла по земле. Я спасала людей, обреченных на пожизненное страдание.
Я вызывала Огонь Божий на себя, и я не знала, отмолю я свой грех или нет; но я вземляла грехи мира, как Исса учил меня, и я отмаливала великие грехи людей, чтобы душам, на небе сущим, в синем широком небе летающим, было светло и покойно, как у Христа за пазухой; а то, когда их убивали, они даже и помолиться-то, и покаяться не смогли.
И ветер утихал, и полегли люди все на влажную землю, пахнущую прелью и прошлогодней косматой травой, и плакали горько, горячо, неостановимо, слезы лились и лились по щекам, уходили в сырую землю, к сокам ручьев, к водам реки, к прозрачному ключу, источенному пророком в пустыне.
— …будешь ночевать под мостом, — была повторена, еще и еще, злобная, хлесткая фраза.
Ксению тошнило. Повязка врезалась ей в подлобье. Она не унижала себя просьбой снять ее. Летающая посудина, в которой ее снова бросали из одного конца мира в другой, чуть не разваливалась под облаками. Разве могла она думать, что ее будут так швырять и мотать по жизни силы, горящие, как звезды, выше ее, надмирнее? Пить. Есть. Спать. Она, должно быть, тоже мировая сила, если они так с ней возятся. Если так ненавидят ее, хотят стереть из Божьей памяти, как росчерк на речном песке.
Голова пошла кругом, колесом. Она не помнила, как приземлилась небесная каракатица. Запеленатую в кокон тумана, дурноты и боли, ее пронесли вдоль по темноте и вытряхнули в ночную сырость и хмарь.
Вот мы щадим тебя, — услышала она голос вперемешку со смехом. — Мы кидаем тебя, как кость, в пасть миру. Живи. Восхваляй нас. Мы чересчур добры. Нам просто….. жаль тебя. Как ни странно.