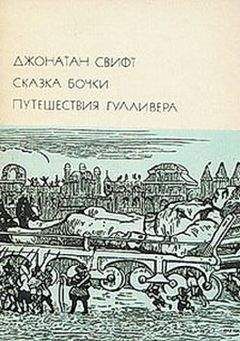Но существует еще и другая причина, удерживающая меня от содействия расширению владений его величества открытыми мной странами. Правду говоря, меня берет некоторое сомнение насчет справедливости, проявляемой государями в таких случаях. Например: буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении; наконец юнга открывает с верхушки мачты землю; пираты выходят на берег, чтобы заняться грабежом и разбойничеством; они находят безобидное население, оказывающее им хороший прием; дают стране новое название, именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или камень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжины туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в качестве образца, возвращаются на родину и получают прощение. Так возникает новая колония, приобретенная по божественному праву. При первой возможности туда посылают корабли; туземцы либо изгоняются, либо истребляются, князей их подвергают пыткам, чтобы принудить их выдать свое золото; открыта полная свобода для совершения любых бесчеловечных поступков, для любого распутства, земля обагряется кровью своих сынов. И эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует современную колонию, отправленную для обращения в христианство и насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонников.
Но это описание, разумеется, не имеет никакого касательства к британской нации, которая может служить примером для всего мира благодаря своей мудрости, заботливости и справедливости в насаждении колоний; своим высоким духовным качествам, содействующим преуспеянию религии и просвещения; подбору набожных и способных священников для распространения христианства; осмотрительности в заселении своих провинций[648] добропорядочными и воздержанными на язык жителями метрополии; строжайшему уважению к справедливости при замещении административных должностей во всех своих колониях чиновниками величайших дарований, совершенно чуждыми всякой порочности и продажности; и — в увенчание всего — благодаря назначению бдительных и добродетельных губернаторов, горячо пекущихся о благоденствии вверенного их управлению населения и блюдущих честь короля, своего государя.
Но так как население описанных мной стран, по-видимому, не имеет никакого желания быть завоеванным, обращенным в рабство, истребленным или изгнанным колонистами и так как сами эти страны не изобилуют ни золотом, ни серебром, ни сахаром, ни табаком, то, по скромному моему мнению, они являются весьма мало подходящими объектами для нашего рвения, нашей доблести и наших интересов. Однако, если те, кого это ближе касается, считают нужным держаться другого мнения, то я готов засвидетельствовать под присягой, когда я буду призван к тому законом, что ни один европеец не посещал этих стран до меня, поскольку, по крайней мере, можно доверять показаниям туземцев; спор может возникнуть лишь по отношению к двум еху, которых, по преданию, видели много веков тому назад на одной горе в Гуигнгнмии и от которых, по тому же преданию[649], произошел весь род этих гнусных скотов; эти двое еху были, должно быть, англичане, как я очень склонен подозревать на основании черт лица их потомства, хотя и очень обезображенных. Но насколько факт этот может быть доказательным, — предоставляю судить знатокам колониальных законов.
Что же касается формального завладения открытыми странами именем моего государя, то такая мысль никогда не приходила мне в голову; да если бы и пришла, то, принимая во внимание мое тогдашнее положение, я, пожалуй, поступил бы благоразумно и предусмотрительно, отложив осуществление этой формальности до более благоприятного случая.
Ответив, таким образом, на единственный упрек, который можно было бы сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляюсь в свой садик в Редрифе наслаждаться размышлениями, осуществлять на практике превосходные уроки добродетели, преподанные мне гуигнгнмами, просвещать еху моей семьи, насколько эти животные вообще поддаются воспитанию, почаще смотреть на свое отражение в зеркале и, таким образом, если возможно, постепенно приучить себя выносить вид человека; сокрушаться о дикости гуигнгнмов на моей родине, но всегда относиться к их личности с уважением ради моего благородного хозяина, его семьи, друзей и всего рода гуигнгнмов, на которых наши лошади имеют честь походить по своему строению, значительно уступая им по своим умственным способностям.
С прошлой недели я начал позволять моей жене садиться обедать вместе со мной на дальнем конце длинного стола и отвечать (как можно короче) на немногие задаваемые мной вопросы. Все же запах еху по-прежнему очень противен мне, так что я всегда плотно затыкаю нос рутой, лавандой или листовым табаком. И хотя для человека пожилого трудно отучиться от старых привычек, однако я совсем не теряю надежды, что через некоторое время способен буду переносить общество еху-соседей и перестану страшиться их зубов и когтей.
Мне было бы гораздо легче примириться со всем родом еху, если бы они довольствовались теми пороками и безрассудствами, которыми наделила их природа. Меня ничуть не раздражает вид судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможи, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных; существование всех их в порядке вещей. Но когда я вижу кучу уродств и болезней как физических, так и духовных, да в придачу к ним еще гордость, — терпение мое немедленно истощается; я никогда не способен буду понять, как такое животное и такой порок могут сочетаться. У мудрых и добродетельных гуигнгнмов, в изобилии одаренных всеми совершенствами, какие только могут украшать разумное существо, нет даже слова для обозначения этого порока; да и вообще язык их не содержит вовсе терминов, выражающих что-нибудь дурное, кроме тех, при помощи которых они описывают гнусные качества тамошних еху, среди них они, однако, не могли обнаружить гордости вследствие недостаточного знания человеческой природы, как она проявляется в других странах, где это животное занимает господствующее положение. Но я благодаря моему большому опыту ясно различал некоторые зачатки этого порока среди диких еху.
Однако гуигнгнмы, живущие под властью разума, так же мало гордятся своими хорошими качествами, как я горжусь тем, что у меня две руки; ни один человек, находясь в здравом уме, не станет кичиться этим, хотя и будет очень несчастен, если лишится одной из них. Я так долго останавливаюсь на этом предмете из желания сделать, по мере моих сил, общество английских еху более переносимым; поэтому я очень прошу лиц, в какой-нибудь степени запятнанных этим нелепым пороком, не отваживаться попадаться мне на глаза.
В основу настоящего перевода положено 5-е английское издание A Tale of a tub 1710 г. (London: Printed for John Nutt, near Stationers Hall. MDCCX). К этому изданию впервые приложена Апология и множество новых примечаний, помещенных под текстом. Из сохранившейся переписки между Свифтом и Бенджамином Туком, его лондонским посредником, видно, что не только самый текст, по и примечания были перед напечатанием просмотрены Свифтом. Больше того: внимательное их изучение показывает, что они были составлены самим Свифтом. Под некоторыми примечаниями мы видим подпись: «У. Уоттон». Каким образом враждебно настроенный к Свифту филолог мог написать примечания к его книге? Произошло это вот как: в 1705 году, после выхода в свет Сказки бочки, Уоттон прибавил к третьему изданию своих Размышлений о древней и современной образованности (в них Уоттон полемизировал с покровителем Свифта Уильямом Темплом и доказывал превосходств современной литературы и образованности над античной) критические Замечания о Сказке. Эти Замечания представляют собой обличение автора Сказки (Уоттон склоняется к предположению, что им является Уильям Темпл) в атеизме, в издевательстве над всем, что есть священного во всех религиях; попутно Уоттон, по привычке филолога-комментатора, дает разъяснение некоторых содержащихся в Сказке намеков. Свифт иронически выбрал эти разъяснения и поместил их под текстом нового издания Сказки, обратив таким образом своего врага в прилежного комментатора; ирония усугубляется тем, что комментируются намеки, в общем не требующие разъяснения и понятные для каждого образованного читателя. Что же касается примечаний без подписи, то они либо принадлежат самому Свифту (таковы, например, иронические догадки по поводу пропусков в тексте или полемика с примечаниями Уоттона, особенно на стр. 69), либо выбраны нм из примечаний, присланных издателем. В общем, все они составляют органическую часть текста и усиливают его сатирические намерения, так что их лучше всего печатать вместе с текстом.