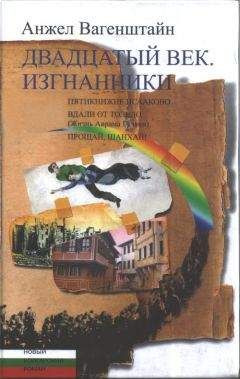Сидеть вдвоем в маленькой кондитерской и мечтать о счастье — что же тут плохого? Однако узники Дахау до смерти возненавидели это танго, любимую мелодию шарфюрера СС Ханзи Штейнбреннера по прозвищу «ужас Дахау». Это стало известно из мемуаров тех немногих, кому удалось выжить. Жалкий оркестрик, составленный преимущественно из остатков Дрезденской академической филармонии, каждое утро ровно в семь провожал звуками «Маленькой кондитерской» выходившую на работу седьмую штрафную роту — страшную Strafkompanie Sieben.
Ханзи весело подпевал оркестру, дирижируя палкой, которой время от времени, никогда не сбиваясь с ритма, вытягивал по спине кого-нибудь из отстающих:
In einer kleinen Konditorei
Da saßen wir zwei
Und traümten vom Glück..[27]
Дахау был небольшим городком в Верхней Баварии: тысяч двадцать жителей, главным образом, мелкие лавочники, пивовары, рабочие бумажной промышленности. Ничем не примечательный городишко. Мир так бы и не узнал о его существовании, если бы 22 марта 1933 года, менее чем через три месяца после назначения Гитлера рейхсканцлером, там не был размещен первый нацистский концентрационный лагерь. Начало — всегда дело нелегкое: Дахау был довольно примитивным заведением неясного профиля с еще не отработанной до совершенства системой функционирования — в отличие от будущих фабрик смерти. Освенцим, Майданек и Треблинка станут верховным достижением воспаленного воображения национал-социалистов, погубив 7 миллионов 380 тысяч жизней. Лагерь в Дахау был всего лишь тихим, скромным, почти незаметным началом исторической карьеры нацизма. Даже в последний день его существования — 29 апреля 1945 года, когда на территорию лагеря ворвались американские танки — в его активе числилось всего-навсего 66 тысяч трупов.
Все это, однако, в будущем. Пока что, в 1938-ом, в Дахау отправляли тех, кого по тем или иным соображениям (в том числе по личной прихоти начальства) было несподручно передавать все еще гласной судебной системе, обвинив в таких преступлениях, как принадлежность к евреям, социал-демократам, коммунистам или отбывшим свой срок мошенникам, которым не место в новом немецком обществе.
Скрипач Теодор Вайсберг раздумывал над всем этим денно и нощно, но так и не мог прийти к ясному выводу. Тем более, что он никогда не ощущал себя евреем в полном смысле этого слова. Подобно большинству своих современников — немецких интеллектуалов еврейского происхождения — в синагоге он бывал, только когда дети родственников или коллег сочетались браком. По этой причине он столь же часто бывал в протестантских и католических церквях. Его родным языком был немецкий, а сам он мог считаться совершенным продуктом немецкой цивилизации. Теодор Вайсберг редко вспоминал, что он еврей, пока ему об этом не напоминали.
Здесь, в Дахау, ему была пожалована привилегия: вместо того, чтобы вместе с другими каторжанами строить автомагистрали, он дважды в день — в семь утра и в семь вечера — играл на скрипке песню, в которой говорилось о маленькой кондитерской и двух мечтающих о счастье влюбленных. Первый раз — когда зеков гнали на работу обязательным строевым шагом, и второй — двенадцать часов спустя, когда они возвращались, еле волоча ноги от усталости. В промежутке он носил на объект воду в бачке военного образца или дневалил по лагерю — как прикажут.
Теодор Вайсберг был человеком хрупким, деликатным и ко всем внимательным. Его речь и поведение выдавали хорошее буржуазное воспитание, полученное в семье отца, преуспевающего адвоката. Грубые, порой довольно нецензурные подначки заключенных, в большинстве своем пролетариев, средней руки ремесленников, профсоюзных активистов и прочей мелкой сошки, ранили Вайсберга, он замыкался в себе, из-за чего в среде товарищей по несчастью слыл высокомерным интеллектуалом. Замкнутость его, однако, была следствием не высокомерия, а неприспособленности к чему-то другому, кроме музыки. Музыка владела им всецело, и он владел ею в совершенстве.
Музыкантов из лагерного оркестра естественно связывало чувство солидарности, но кроме них, во всем лагере был один-единственный человек, к которому Теодор испытывал что-то вроде доверия, дружеского расположения и даже признательности. Этим человеком был Шломо Финкельштейн. Толстый и плешивый коротышка, почти карлик, он был родом из далекой Галиции и сидел за мелкое жульничество: ему случалось запускать руку в чужой карман, приторговывать контрабандными сигаретами и частенько забредать в универсальные магазины, где он забывал заплатить за товар, каким-то образом оказавшийся за подкладкой его слишком длинного пальто. Шломо рассказывал еврейские анекдоты с колоритным акцентом, что не требовало от него особого артистизма: он всегда так говорил. Заключенные часто над ним подшучивали и насмехались, но он не обижался, а смеялся вместе со всеми и над своим ростом, и над речью. Как ни парадоксально, именно полуграмотный мелкотравчатый махинатор Шломо Финкельштейн стал, благодаря своему простодушию и готовности оказывать всяческие услуги, наперсником аристократического скрипача. Он помогал Вайсбергу отмывать сальный бачок, подметать спальные помещения и перетаскивать непосильные для него тридцатикилограммовые мешки с картошкой с грузовика на кухню. Обычно заключенные ненавидят тех, кто в фаворе у начальства, и наоборот, но Шломо благоволили все. Он был чем-то вроде всеобщей отдушины, королевского шута, которому заранее все прощалось.
Дни тянулись монотонной чередой, складываясь в месяцы, а отсутствие вестей от Элизабет делало их особенно тягостными. В Дахау, в отличие от обычных тюрем с установленным в законном порядке режимом, переписка была запрещена. Ничто не оживляло ненавистную рутину: час на утреннюю и час на вечернюю перекличку да все та же, будь она трижды проклята, маленькая кондитерская, да доведенная до совершенства система ухищрений, цель которых — сделаться невидимкой для Ханзи Штейнбреннера и избежать таким образом очередного удара палкой по спине.
Вот только флейтисту Симону Циннеру — прекрасному музыканту, но вспыльчивому человеку — этот номер не удался. В прошлом его коронными произведениями были опусы Моцарта для флейты и фортепьяно, которые принесли ему известность в изысканных салонах. Этот прекрасный музыкант взорвался, когда охранник принялся молотить палкой по спине шахтера в острой фазе силикоза, едва державшегося на ногах. Бросив флейту, он вырвал у Ханзи его излюбленное орудие и что было сил обрушил на него самого. От неожиданности тот остолбенел и сначала даже не понял, что произошло. Но быстро пришел в себя и нашел способ защитить свое достоинство. Да еще какой способ!
…Седьмая штрафная рота оставалась в строю на вытоптанном плацу без ужина и воды до полуночи, а ровно в полночь Ханзи Штейнбреннер все той же палкой в ритме танго, которое оркестр играл уже пятый час без передышки, превратил пальцы флейтиста Симона Циннера в кровавую кашу.
Теодора Вайсберга вырвало, он потерял сознание.
В себя его привел все тот же Шломо, дотащивший бесчувственного скрипача до его нар в бараке. После этого Вайсберг долго не мог избавиться от чувства вины — ведь он играл, когда скотина Ханзи калечил его коллегу.
И вот однажды утром в начале июля, когда оркестр провожал заключенных на работу, кто-то похлопал Теодора Вайсберга по плечу. Он вздрогнул и обернулся, скрипка взвизгнула писклявым фальцетом. За спиной у него стоял Ханзи, который необычайно дружелюбным тоном рыкнул:
— Ты Вайсберг? Чего перепугался, будто тебя режут? Чеши в канцелярию комендатуры, бегом! А остальным — продолжать! Да пободрее, тут вам не похороны! Ну-ка, засранцы, ать-два левой… левой… левой! Ать-два левой… левой… левой!.. In einer kleinen Konditorei… Da saßen wir zwei… Und traümten vom Glück.
Напевая, он дирижировал своей дубинкой, пока Теодор, недоумевая и испытывая смутные опасения, шел с плаца в комендатуру лагеря Дахау.
16
В просторной, неярко освещенной гостиной, звучал рояль. Звучал пианиссимо — Элизабет играла для себя. Солидная мебель, пушистые ковры, высокие китайские вазы, хрусталь, серебряные подсвечники — все в этом доме свидетельствовало о богатстве, нажитом не за один день. В педантично, до мелочей продуманной обстановке, в царившем здесь подчеркнуто безупречном порядке проскальзывало нечто неестественное, даже, может быть, мещанское: без единой морщинки на скатерти, упавшего на ковер журнала или раскрытой книги на диване, пепельницы, которую забыли вытряхнуть, или несимметрично раздвинутых портьер.
Она не слышала, как за ее спиной на пороге гостиной появился Теодор Вайсберг. В иных обстоятельствах его вид был бы скорее комичен: многодневная щетина, коротко остриженная голова, тот же концертный смокинг, в котором он был арестован, но уже потерявший форму и половину пуговиц. Один рукав был наполовину оторван — кто знает в каком полицейском фургоне или этапной камере это случилось. Этого человека можно было бы принять за богатого бонвивана, завсегдатая ночных клубов, ударившегося в запой, но решившего, в конце концов, вернуться к семейному очагу; на заключенного, только что освободившегося из Дахау, он вовсе не походил.