— Слушай, а у тебя колёса хорошо закреплены? — не без иронии поинтересовался я, вцепившись в ручку перед собой.
— Спокойно, — отвечал он, — перед тобой автогонщик мирового класса.
Но скорость машины заметно снизилась. После Люйдяня дорога вилась по изгибам Большого канала. Вода сверкала золотистыми бликами, по течению шёл небольшой бело-голубой катер.
— Планов у твоего дяди громадьё, дорогой племянник, — вещал Цзиньлун. — Хочу весь Гаоми превратить в рай на земле, сделать нашу деревушку прибрежной жемчужиной, чтобы ваш задрипанный уездный городишка стал пригородом Симэньтуни. А, как тебе?
Кайфан молчал.
— Дядя к тебе обращается! — повернулся я к нему.
Но этот негодник уже спал, пуская слюнку на голову Четвёрочки. Щенок лежал, чуть приоткрыв глаза, — у него, наверное, кружилась голова. Хэцзо повернулась ко мне той стороной, где у неё была бородавка, и смотрела на реку, надув губы, будто сердилась.
Уже на подъезде к городу мы увидели Хун Тайюэ. Он ехал на стареньком, ещё времён кампании «Больше свиней стране», велосипеде, в драной соломенной шляпе. Согнулся, раскачивается из стороны в сторону, изо всех сил крутя педали. Спина мокрая от пота, одежда запылённая.
— Хун Тайюэ, — проговорил я.
— Давно уже его заприметил, — откликнулся Цзиньлун. — Наверное, опять в партком уезда жаловаться.
— На кого это?
— А на кого придётся. — Помолчав, Цзиньлун улыбнулся. — Вообще-то они с нашим стариком — две стороны одной монеты. — Цзиньлун хлопнул по клаксону, а потом заговорил снова: — Из Тайюэ старший брат, а из Лань Ляня младший — не приведи господи. Так что они друг друга стоят!
Обернувшись, я увидел, как Хун Тайюэ вильнул пару раз, но не упал. Его фигура быстро уменьшалась. Вдогонку донеслась его визгливая ругань:
— Симэнь Цзиньлун! Так твоих предков и разэтак! Отродье тирана-помещика…
— Я его ругательства уже наизусть выучил, — усмехнулся Цзиньлун. — Милый старикан!
Перед воротами нашего дома Цзиньлун остановился, но глушить двигатель не стал:
— Цзефан, Хэцзо, у нас тридцать-сорок лет за плечами, пора худо-бедно разобраться, что к чему в жизни. Если с кем-то можно быть не в ладах, то между собой нужно ладить непременно!
— Воистину так, — согласился я.
— Ерунда, — сказал он. — Я тут в прошлом месяце познакомился в Шэньчжэне с одной красоткой, так у неё одно с языка не сходит: «Ты меня не изменишь!» На что я отвечаю: «Тогда я сам изменюсь!»
— И что это значит? — не понял я.
— Ну, значит, тебе не понять, раз спрашиваешь!
Джип описал дугу, словно бык, наткнувшийся на красную тряпку, высунувшаяся рука в белой перчатке пару раз как-то необычно, по-детски, махнула, и машина умчалась. Попавшую под колёса рыжую курицу соседки он раздавил в лепёшку. И вроде даже не заметил. Я поднял её, постучал к соседке, но никто не откликнулся. Подумав, достал двадцать юаней, наколол на куриную лапу и запихнул курицу под порожек. Тогда в городе ещё разрешалось держать кур и гусей, а бывший сосед на другой половине двора насыпал песка и держал пару страусов.
— Вот это и есть наш дом, — сообщила сыну и щенку стоявшая посреди двора Хэцзо.
Я вынул из портфеля коробку с вакциной против бешенства.
— Сейчас же положи в холодильник, — сухо предложил я, передавая её. — Смотри, не забудь: колоть нужно раз в три дня.
— Твоя сестра ведь сказала, что от бешенства непременно умирают?
Я кивнул.
— Ну вот, как раз то, что тебе нужно. — С этими словами она выхватила коробку и направилась в кухню: холодильник стоял там.
ГЛАВА 39
Лань Кайфан радостно осматривает новый дом. Четвёрочка тоскует по старому
В первый вечер в вашем доме было ощущение, что меня принимают по высшему разряду. Я — собака и живу в доме у людей. Твой сын, которого с годовалого возраста растила в Симэньтуни твоя мать, за это время ни разу не приезжал домой, и для него, как и для меня, всё было незнакомо и любопытно. Я носился за ним по дому и очень быстро и досконально изучил его устройство.
Дом неплохой. А по сравнению с конурой под стрехой жилища Лань Ляня — просто дворец. Как войдёшь, большая квадратная гостиная, выложенная плитками лайянского[249] мрамора, переливающимися и скользкими. Они сразу заворожили твоего сына, он смотрелся в них, как в зеркало. Смотрел в них на себя и я. Потом он принялся кататься на них, как по льду. А я смутно вспомнил ширь Большого канала за деревней, поверхность прозрачного, как зеленоватый нефрит, льда. Сквозь него было видно, как течёт вода и как медленно двигаются рыбки. На красных плитках вырисовалась фигура огромного хряка, и меня охватил ужас: а ну как съест! Я тут же поднял голову и вниз больше не смотрел. Фартук стен вокруг облицован оранжевыми пластинами из бука, стены белые, потолок тоже, бледно-голубые люстры в форме ландышей. Ещё на стене я увидел увеличенную фотографию: лес, зеленоватая гладь пруда, окаймлённая золотистой полоской тюльпанов, и пара лебедей. С восточной стороны — длинный и узкий кабинет с книжным шкафом во всю стену, заставленным разнокалиберными книгами. В углу кровать, рядом письменный стол и стул. Пол из бука покрыт прозрачным лаком. На запад от гостиной — коридор, прямо и направо спальни с кроватями и тоже буковым полом. Позади гостиной — кухня.
Просто шикарно, очень круто. Но это я тогда так думал. А через какое-то время побывал у хозяев моих братьев и сестры. Вот тогда и понял, что такое современная отделка, что такое богатство и великолепие. Хоть вы, считай, моя семья, но живёте по сравнению с другими — стыд один. Но мне всё равно здесь нравится. Собаке всё одно: бедняк не бедняк, её любое жильё устраивает. Четыре комнаты, две пристройки — восточная из двух комнат и западная из трёх, большой двор на половину земли, четыре кряжистых утуна, колодец со свежей водой во дворе. И дом, и двор говорили, что ты, Лань Цзефан, живёшь неплохо. Должность невеликая, но способностей хватает, ты личность.
А я — собака, и любая собака — маленькая или большая — должна выполнять свои собачьи обязанности, то есть в каждом новом месте нужно пустить струйку, метку оставить. С одной стороны, это поясняет, что здесь твои владения; с другой — мало ли куда убежишь за ворота и заблудишься, по запаху всегда можно найти дорогу обратно.
Первую метку я брызнул на правую сторону входного проёма. Поднял правую заднюю ногу — раз, раз, и запах во все стороны. Экономно, конечно, ведь ещё на сколько мест должно хватить. Вторую оставил на стене в гостиной — тоже пару струек, больше не надо. Третью метку начал было ставить на твой книжный шкаф, Лань Цзефан, но получил пинок, и остаток струйки пришлось сдержать. С тех пор прошло долгих десять с лишним лет, а того пинка мне не забыть. Хоть ты и был хозяин в доме, я тебя никогда хозяином не считал, а потом ты мне даже смертельным врагом стал. Первейшей моей хозяйкой была, естественно, эта женщина с половинкой зада. Потом шёл мальчик с наполовину синим лицом. Ты же, мать его, представлял в моей душе нечто несусветное.
Твоя жена поставила в коридоре корзинку, выложила газетами, твой сын положил туда резиновый мячик — считай, конура. Всё это, конечно, славно, да ещё с игрушкой, её я тоже оценил. Но всё хорошее длится недолго, в этом гнёздышке я провёл всего полночи, потом ты вышвырнул его вместе со мной в западную пристройку на кучу угля. Почему? Потому что в темноте я вспоминал конуру в Симэньтуни, вспоминал тёплое лоно матери, добрый запах от старой хозяйки. Я невольно повизгивал, из глаз катились слёзы. Даже твой сын, который спал вместе с твоей женой, ночью вскакивал и искал бабушку. Люди, собаки — всё одно. Твоему сыну уже три года, а мне всего три месяца — почему даже о матери вспомнить нельзя? К тому же я вспоминал не только свою суку-мать, вспоминал и твою мать тоже! Но что толку говорить об этом, если ты среди ночи распахнул дверь, схватил корзинку и выкинул меня, да ещё выругался при этом: «Поскули ещё, дворняга этакая, удушу!»
На самом деле ты даже не ложился, а скрылся к себе в кабинет, где на столе для вида лежал томик избранных сочинений Ленина. Это ты, с головой, забитой гнилыми мыслишками класса капиталистов, и Ленина читаешь? Тьфу! Что только не придумаешь, паршивец, лишь бы с женой не спать. Куришь одну сигарету за другой — кабинет задымил так, что стены пожелтели, будто шпаклёвку при ремонте использовал какую-то необычную.
Свет лампы пробивался через приоткрытую дверь твоего кабинета, он струился через гостиную, через щель двери в коридор, а за светом тянулся табачный дым. Я хоть и поскуливал, но обязанности собачьи выполнял. Запомнил запах, исходящий от тебя, резкий, в основном табачную вонь, запомнил запах твоей жены, в котором основное — страдания — скрывал запах рыбы и мяса, смешанный с запахом йода. А запах твоего сына, сочетающий горестные запахи вас обоих, мне давно хорошо знаком. В деревне я с закрытыми глазами мог найти его сандалии среди многих других. А ты, подлец, посмел выгнать меня из дома на угольную кучу в сарай. Если ты — собака, думаешь, хочется жить в одном доме с людьми? Нюхать запах ваших ног? Или ваши газы? Или лисью вонь из-под мышек? Или кислый запах изо рта? Но тогда я был маленький, хоть на одну ночь пустили в дом — и то, считай, благодеяние, а ты, паршивец… Вот тогда вражда у нас и завязалась.

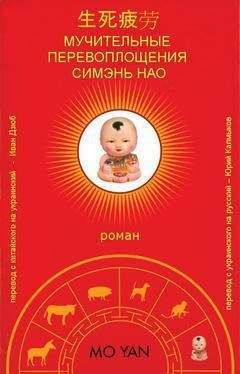



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)