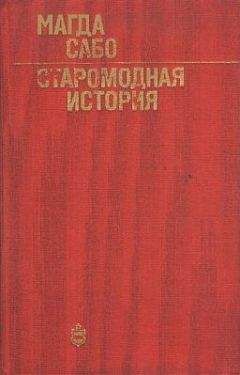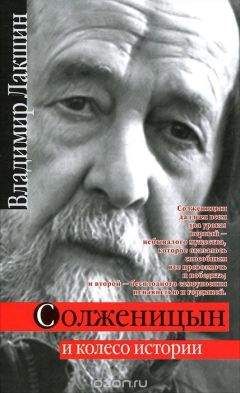«Весьма мрачен»… А с чего ему было выглядеть веселым? Не с того ли, что наподобие какой-нибудь железной перчатки или золотой чаши переходит он то в собственность сербских деспотов,[32] то к кому-то еще, что его продают и покупают, швыряя из рук в руки, будто мячик, и счастье еще, что очередные сюзерены, семья Хуняди,[33] оказались хорошими хозяевами… Матяш даже разрешает городу обнестись каменной стеной — забыв, правда, о том пустячном обстоятельстве, что вокруг Дебрецена во все стороны, сколько ни ищи, не найдешь завалящей горки, где можно было бы добывать камень; так и остается единственным оборонительным рубежом города узенький ров, а сверх того — вера, разум и сплоченность. Чему должен был радоваться Дебрецен? Уж не мохачской ли катастрофе? Или, может, тем бедствиям, что обрушились на город при новом сюзерене, Балинте Тереке?[34] Хорошо еще, что Таунсон, когда писал свои путевые заметки, видел город не в подлинно пуританском обличье, а лишь разграбленным, недоверчивым, угрюмым после разгрома заговора Мартиновича.[35] Что бы он сказал, побывав в городе в другое время, увидев его под тяжкой тенью Мелиуса2[36] по-кромвелевски строгим,[37] одетым в черное, услышав несущиеся из церквей суровые протестантские мелодии? «Мрачный град»? Дебрецену, включенному в Сольнокский санджак Эгерского вилайета,[38] после Мохача для того, чтобы не быть стертым с лица земли, пришлось служить сразу трем господам: его облагают данью и венгерский король, и трансильванский князь, и турецкий султан, и ему, несмотря ни на что, нужно как-то стоять между степями и болотами, добывать где-то средства к существованию, припасы, которых всегда не хватает, принимать беженцев из сожженных городов и деревень, да еще ездить с товарами чуть ли не по всему свету, от Стамбула до Нюрнберга, наскребая деньги, которых вновь и вновь требуют от него сильные мира, выкладывать свою продукцию на рынках Венеции, Лондона, Аугсбурга, ему приходится охранять сон своих жителей, — охранять без всяких стен и башен, вертя головой сразу на три стороны, порой, после эпидемии чумы, хороня сразу по три тысячи покойников, время от времени сражаясь с такими тучами саранчи, что по ним приходится стрелять из пушек, терпеть и королевские желания, и императорских наемников, близко познакомиться с Бельджиойозо, остаться нищим и голодным после религиозных войн,[39] встретиться с генералом Страссольдо[40] (перед встречей с ним город насчитывал две с половиной тысячи домов, а в результате успешной деятельности генерала осталось жилищ числом девяносто четыре). «Мрачный град»? А слыхали вы, мистер Таунсон, про Караффу?[41] Чего только не делали изобретательные наемники Страссольдо с несчастными дебреценцами: приковывали им руки-ноги к голове, разжигали у них на теле огонь, подвешивали их за пальцы, пилили заложников железной пилой, срезали жилы на ногах, срывали ногти с пальцев. Бежит Ленке Яблонцаи по небесным кущам вслед за удирающим ботаником и кричит, — кричит о том, что здесь, в Дебрецене, уже в 1565 году существовало Торговое общество, платежные расписки которого были действительны но всей Европе, до берегов Атлантического океана, но история нас так бросала и швыряла, что чудо уже, если мы вообще живы, а вот шведский король, когда бежал из-под Полтавы, не был таким брезгливым, как мистер Таунсон: хотя настроение у него после разгрома было не лучезарным, он всю ночь читал, остановившись у главного судьи Дебрецена, не мог оторваться от его домашней библиотеки, по тем временам почти королевской; да и Иосиф I,[42] должно быть, неплохо себя чувствовал в сем «весьма мрачном граде», если прикрикнул на тех, кто хотел было отогнать от короля тянущихся к монаршей руке старушонок: «Оставьте их, это мой народ!» — и скрытно читал Кальвина[43] меж необозримых книжных стен Коллегии. Работающие здесь профессора могли бы стать всемирно известными, останься они в заграничных университетах, любой из которых предлагал им кафедру; но они возвращались домой, ибо там и вода иная, и ветер иной, ибо только там был дом, была родина; и бежит мистер Таунсон, а за ним — Ленке Яблонцаи, и она кричит, мол, это еще не все, он ведь не знает — потому как давно уже помер, — что это был тот самый город, где Габсбургам было сказано, чтоб уходили с богом, и здесь находится тот самый рынок, где камни мостовой хранят память о шагах Кошута,[44] и здесь был тот самый дом — кстати, дом ее предков, — где прибывший во главе царского войска великий князь Константин[45] слушал цыгана Кароя Боку; а потом, после дебреценского сражения, когда Бока в драной одежонке играл на главной площади города, оплакивающего павших своих сыновей: «Эх, придет еще рассвета час, ведь не вечно будет ночь у нас», — никак не мог великий князь взять в толк, почему под такую веселую музыку дебреценцы горько рыдают.
«Весьма мрачный град»? — кричит Ленке Яблонцаи. — Да ведь здесь родился Чоконаи,[46] здесь степное небо возлежит на бутонах роз и на нарциссах. Бежит Таунсон, бежит, боясь остановиться, а Ленке уже кричит про Большой лес,[47] про то, что на Рыночной улице проложены пути узкоколейки, предшественницы будущего трамвая, что в Большом лесу есть павильон Добош и еще там тир, буфет, купальня, гостиница, а сколько школ в городе, с каждым годом все больше. Недаром в гербе города поднимается, расправляет крылья птица Феникс; а «Биогал»,[48] кричит Ленке Яблонцаи, а типография «Альфёльд», а Институт ядерных исследований, а высотные дома рядом с вокзалом? Откуда знать Таунсону, что такое высотные дома? Он удирает, он уже выдохся, ему страшно, а Ленке Яблонцаи все гонится за ним, она уже поет, поет колыбельную, которую пела своему второму ребенку: «Спи, мой чижик, спи, спи, спи…» — у нее снова хорошее настроение, она сполна рассчиталась с Таунсоном за «весьма мрачный град».
Жизненные пути персонажей «Старомодной истории» сплошь и рядом проходили в одних и тех же местах задолго до того, как эти персонажи обнаружили, что стали родственниками друг другу.
Дебрецен и его окрестности, как и имение Венкхаймов, с какой-то мистической последовательностью возникали вновь и вновь, пока я собирала материалы для книги о матушке. Ленке Яблонцаи родилась в Фюзешдярмате, но там же жил, там умер и был похоронен рядом со своей женой и Янош Сабо-старший, землемер, дед Элека Сабо, второго мужа Ленке, тоже родившегося в комитате Бекеш, в Кёрёштарче; а чтобы нити сошлись еще теснее, замечу, что у землеустроителя Яноша Сабо работодателями были те же самые Венкхаймы, что и у прадеда Ленке Яблонцаи, примерно в те же времена служившего в имении Венкхаймов управляющим. В Шаррете, лет через двадцать после того, как отец второго мужа Ленке Яблонцаи, Янош Сабо-младший, закончив учебу в заграничных университетах, встал во главе кёрёштарчайского прихода, — подвизался в качестве землеустроителя Кальман Яблонцаи-Сениор, который привез с собой в окрестности Фюзешдярмата и Сегхалома в качестве практиканта-землемера и сына своего, Кальмана-Юниора, в будущем отца Ленке Яблонцаи и мужа Эммы, внучки знаменитого фюзешдярматского проповедника и летописца Иштвана Гачари. Но в этом комитате жил и другой дед — по матери — второго мужа Ленке Яблонцаи, Элек Дабаши-Халас, тоже землеустроитель; здесь родились и выросли и двоюродные братья свекра Ленке Яблонцаи, люди все широкоизвестные: поэт Дюла Шароши,[49] автор «Золотой трубы»; Лайош Сакал,[50] тоже автор многих песен, ставших народными, и живописец Альберт Сакал, который на средства Венкхаймов учился в Мюнхене, в Академии изобразительных искусств. Когда Шароши, поэт, уже покинул эти места, он еще долго писал шарретским родственникам, прося их присылать ему перья белой цапли на шляпу. (Благородная белая цапля, в те времена в изобилии обитавшая в этом краю, часто взмахивает крылами в стихах Кальмана Яблонцаи-Юниора, отца Ленке.) Перья ему могли посылать не только двоюродные братья, живущие в Бекеше, но и отчим, секретарь фюзешдярматской управы Пал Санто — кстати, близкий друг семьи Гачари. Члены всех этих многочисленных и разветвленных родов: Адяи-Сабо, Варади-Сабо, Яблонцаи, Гачари — занимают примерно одни и те же посты на государственной службе, в обществе составляют слой людей с одинаковыми культурными интересами, они доброжелательно приветствуют друг друга, встретившись где-нибудь на территории двух комитатов, кивают друг другу из лож выдержанного в удивительно красивом мавританско-византийском стиле дебреценского театра: с одной стороны снимают ложи Сабо, с другой — семья Марии Риккль, бабки Ленке Яблонцаи по отцу. Ни пуритане Гачари, ни Сабо, исповедующие реформированную в строгом гельвецианском духе религию, ни Яблонцаи и Риккли, ревностные приверженцы римско-католической церкви, не подозревают, что наступит год, когда их столь разная кровь, их несхожие взгляды на жизнь, политические симпатии, хозяйственные принципы, религиозные убеждения вдруг сольются, сплавятся в яростном пламени неожиданной, безумной любви, для всех этих семей означающей лишь катастрофу, и что будет заключен гибельный, роковой брак, в котором эротическое влечение, в первое время поистине неутолимое и не знающее преград, даст жизнь светловолосой, стройной, как лоза, длинноногой, зеленоглазой, бледной девушке Ленке Яблонцаи, а та, не унаследовав ни капли материнского темперамента, на поцелуи, на супружеские ласки будет реагировать лишь неодолимым до обморока отвращением, будет испытывать панический ужас, желание убежать, скрыться всякий раз, как, привлеченный ее глубокой образованностью, ее веселым, всегда готовым откликнуться на игру, на шутку характером, ее светлым умом, ее прекрасным лицом, захочет к ней приблизиться мужчина.