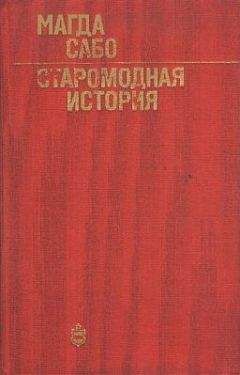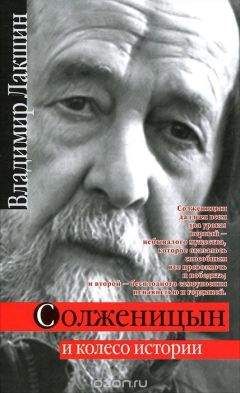Когда брат мой умирал, я сидела возле его постели. Он пытался что-то сказать. Слова его были неразборчивы, болезнь, не знающая снисхождения, сначала лишила его ног, потом ослепила и парализовала, а в тот день добралась до органов речи. Сын Ленке Яблонцаи с трудом артикулировал звуки, а то, что все же удавалось понять, походило более всего на прорывающиеся сигналы каких-то бредовых галлюцинаций — ведь нельзя же всерьез воспринимать из уст находящегося на пороге смерти человека такие слова, как «капитан» и «палаш». Но дочь Ленке Яблонцаи лишь кивала понимающе, расправляя одеяло на месте ампутированных ног брата, и видела перед собой былую его комнату, где они, сидя рядом на кушетке, делили когда-то наследство, — и вот в конце концов орудием в руках судьбы стал не капитанский палаш, а хирургическая пила, безрезультатно отпилившая ему ноги до самого туловища.
О предке-галернике, о королевском советнике, Беле IV и гайдуцком капитане матушка рассказывала несравнимо больше, чем о собственном отце; когда мы на нее слишком уж наседали, она неохотно уступала и сообщала о нем какие-то странные вещи: он у нее был то помещиком, то никем, то служащим на заводе Ганца в Пеште, то — это был самый абсурдный и потому особенно увлекательный вариант — директором купальни. (Кальман Яблонцаи-Юниор всегда жил слишком далеко от Ленке, она почти не видела его и практически не знала.) Напротив, о деде Ленке Яблонцаи, Кальмане-Сениоре, и о прадеде ее, Имре-Богохульнике, которые в свое время жили в Дебрецене, на улице Кишмештер, в доме, полученном Марией Риккль, женой Сениора, в качестве приданого, речь шла у нас довольно часто. Сениор, бывший офицер-гонвед времен освободительной войны, и прадед, Имре, в памяти Ленке Яблонцаи запечатлелись как статичные, неменяющиеся фигуры: они всегда сидят, их нужно обслуживать, и оба они, как Ленке слышала от бабушки, — бездельники и жеребцы, только и способные, что воевать, делать долги и производить детей. В доме на улице Кишмештер матушка часто заходила к ним, долгое время она лишь с ними делила свое сиротство; они втроем были обузой для семьи, наказанием, которое господь обрушил за грехи на Марию Риккль. Печально нахохлившийся в своем кресле, терзаемый изнутри табесом — а не ревматизмом, как долго внушали матушке, — Сениор и парализованный после бурного припадка ярости атеист и богохульник Имре, в изображении матушки, были словно два падших ангела, обреченных на неподвижность. Кальман-Сениор развлекал внучку мифологическими историями и стихами Петефи, с бесконечным терпением и тактом пытался врачевать ее душевные травмы; из лабиринта вечного страха, где так долго скиталась, не находя выхода, Ленке Яблонцаи, к комнате Сениора вела солнечная надежная тропинка, вступая на которую, она хоть на время укрывалась от неистовой злобы провинциальных медей.
Прадед, Имре, огромный и толстый антихрист в венгерском платье со шнурами, знал столько невероятных ругательств, что Ленке Яблонцаи лишь дивилась, как это все сходит ему с рук, как это гром небесный не поразит его за проклятья, которые он в изобилии слал и небесам, и Марии Риккль, засунувшей его в дальнюю комнату в задней части дома, как будто это он виноват в том, что огромное его имение, милый Кёшейсег, приобретенный и взлелеянный его руками, его трудом, всей его жизнью, — Кёшейсег, из теплиц которого он, как всесильный маг, добывал на рождество, к праздничному столу, свежую клубнику и дыни, — что это имение сын его Кальман, который в сорока экипажах вез в усадьбу на берегу Кёшея свадебную свиту Марии Риккль, разбазарил, проиграл в карты до последнего хольда,[57] все пустив с молотка, а он, некогда купавшийся в довольстве помещик, скатился до того, что стал нахлебником, приживалом у купецкой дочери, и причем где? В городе, где ни пшеничного поля, ни жаворонка, ни камышового зверья, ни человека живого, если не считать врачей и челяди, не увидишь, — разве что вот малышку, правнучку, Ленке, да изредка еще ту, другую, урожденную старую деву, остроносую Гизеллу, младшую дочь его легкомысленного сына.
У паралитиков, кроме Ленке, в самом деле есть еще одна регулярная гостья — Гизелла. Она прибегала сюда, когда ее страшная в своей несгибаемой силе мать уходила на кладбище или к родне; младшая из трех сестер, которых злые языки дразнили парками, Гизелла, горячо любила своего вечно погруженного в книги отца, декламирующего ей стихи, рассказывающего об освободительной борьбе, о Петефи; деда же с его седым чубом, с массивными, даже на десятом десятке жизни не одрябшими ляжками, с его невероятными кощунственными ругательствами, она и жалела, как всю свою жизнь жалела больных, несчастных существ, подбирая на улице и пытаясь лечить всех бездомных, брошенных, беспомощных кошек и собак, и в то же время смотрела на него с восторженной завистью, ибо если что и было способно поразить воображение третьей парки, то это была смелость. Имре Яблонцаи, прадед Ленке и дед парок, ожидал смерть без страха и без всякого ханжества; сама Гизелла-парка точно так же ждала ее добрых полстолетия спустя, насмешливо глядя на священника из-под полуприкрытых век и отвернувшись от последнего помазания; она так и умерла, глядя в стену. Дом на улице Кишмештер был больше, чем просто дом; он был еще и ужасным обиталищем Бернарды,[58] ареной, где развертывались дикие страсти, сценой трагедийного спектакля. Дочь Ленке Яблонцаи, перебравшись в Будапешт, всегда удивлялась тому, что места, где выросла она сама, где выросли ее родители, в столице представляют как некий идиллический и наивный край, а жителей провинции — как милых, простодушных, но чуть-чуть придурковатых детей природы. Память ее хранила гнетущую тайну родительского дома, спрятанные от постороннего глаза страсти, бушующую за наглухо закрытыми ставнями грозную стихию провинции.
О воспитавшей ее бабушке, жене Сениора, и о бабушкиных родственниках, Рикклях, потомках Антала Риккля, родившегося в 1748 году от Яноша Липота Риккля и Анны Борбалы Вагнер, в 1812 году уже дебреценского гражданина, — о бабушке своей матушка рассказывала много и с удовольствием, совсем не так, как о живущих в Будапеште братьях и о загадочной своей матери, о которой она склонна была сообщить лишь, что та происходила из знатной, богатой и пользующейся всеобщим уважением семьи, но потом потеряла все свое состояние, замужество ее оказалось неудачным, и хотя развестись со своим законным мужем, Кальманом-Юниором, она и не развелась, однако всю жизнь жила отдельно от него. Вот и все, что дети Ленке Яблонцаи смогли узнать о своей бабушке, о которой даже тетушка Пеликан и та говорила неохотно; лишь однажды вырвалось у нее не очень понятное замечание: «Хороши были гуси, и мамочка, и ее муженек». В истории же семьи Риккль мы с братом начали ориентироваться довольно быстро; по крайней мере тот фон, что стоял за воспитывавшей матушку Марией Риккль, не был для нас чем-то темным и непонятным. Что касается купца Йожефа Антала, родившегося еще в Шооше, сына Яноша Липота, помещичьего эконома, то он, вероятно, в какой-то период своей жизни жил в Пеште, поскольку Ансельм Риккль I, дед Марии Риккль, жены Кальмана-Сениора, за восемь лет до заговора Мартиновича (само собой разумеется, в заговоре замешан был и один из Яблонцаи, который в результате и потерял все, что имел, да еще для полноты картины пожертвовал и своей кальвинистской верой: слишком уж скверные слухи ходили о Куфштейне,[59] а о Наместническом совете[60] и того сквернее; и просто подумать страшно, как дрожал за свою участь во время всех этих событий родственник, королевский советник!) проживал в Пеште, там он и женился на Розине Иванич, с которой затем перебрался в Дебрецен, открыв в одном из красивейших домов города, возле Малой церкви, огромную торговлю колониальными товарами. В лавке этой часто бывали и парки, и даже маленькая Ленке; с потолка там свисало на веревке чучело какой-то огромной черной рыбы, оно будто магнитом тянуло к себе взгляды детей. Это процветающее заведение было известно в Дебрецене как лавка «У турецкого императора»; Ансельм и Розина не только вели здесь торговлю, но и выполняли разного рода поручения. Их повозки, объезжая страну, скупая и перепродавая товар, брались и за доставку почты, ценных пакетов. Казинци[61] несколько раз упоминает господина Риккля в письмах, надеясь на его посредничество в пересылке своих ценных книг. Сын Ансельма, родившийся уже в Дебрецене «высокочтимый и достопочтенный» Ансельм II, член Торгового общества, основанного еще в XVI веке, разбогатевший настолько, что уже не в образном, а в буквальном смысле слова греб серебро лопатой, взял в жены дебреценскую уроженку, дочь городского присяжного заседателя Бруннера, Марию Йозефу. Свадьба Ансельма II и дочери Бруннера состоялась в 1842 году, а семь лет спустя пятилетняя Мари, будущая бабка Ленке Яблонцаи, цепляясь за материну юбку, наблюдает за вступлением в город после Дебреценской битвы русских войск, и от нее, от очевидицы, через много лет Ленке узнает о том, что в доме Рикклей, одном из самых красивых в городе, стояли на квартире сначала князь Паскевич, потом граф Рюдигер. Этот самый граф, рассказывала Мария Риккль внучке, выставил на подоконник свой кивер: пусть все еще с улицы видят, что здесь живет русский офицер, и зря не беспокоят хозяев. Пятилетнюю Мари Риккль кивер этот тянул к себе с магической силой, она с благоговением гладила его, когда никто не видел; однажды Рюдигер, застав ее за этим занятием, сунул кивер ей в руки: пусть поиграет, если хочет. Марию Риккль сфотографировали в 1912 году: она сидит на камышовом стуле, глядя в объектив, на ней траурное платье, на шее траурная цепь, свисающая почти до колен, на лице ее нет улыбки, хотя она не выглядит и мрачной; спокойно и бесстрастно смотрит она из-под невероятной по размерам, сплошь состоящей из мягких черных матерчатых валиков шляпы, словно вознамерившись еще раз со вниманием рассмотреть мир, в котором она так давно проводит время. Ленке Яблонцаи говорила, что охотно отдала бы часть своей жизни, чтобы каким-нибудь чудом увидеть, как ее бабушка, пятилетней девочкой, в длинных панталончиках с оборками, вбегает в комнату, где обедают русские офицеры, которых она ни капельки не боится, и на голове у нее кивер графа Рюдигера.