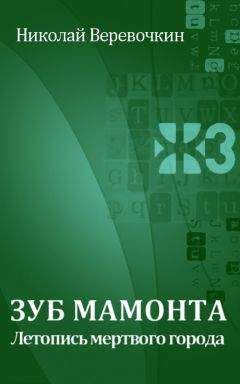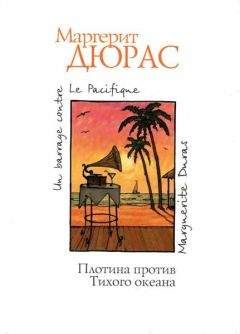— Где сам-то жить собираешься?
— До дождей здесь останусь, а там видно будет, — ответил Козлов с мрачной беззаботностью.
— Ой, я со свету-то совсем ослепла! Это кто у тебя? Здравствуйте.
Руслан поднялся с чурбана и представился степенно, хотя и неопределенно:
— Родственник.
— Уж не Валин ли сынок? — снедаемая неистребимым женским любопытством спросила начинающая вдова, забыв на мгновенье о горе.
Но Козлов вернул ее к главной теме разговора:
— Место определили?
Старушка всхлипнула и снова принялась теребить угол шали.
— Определили, определили. Между Марией и Иваном. Хорошее место. Сухое. Не скучно будет Григорию со своими.
Проводив Павловну, Козлов поставил сковороду на покрасневшую от жара буржуйку. Зашкворчало сало. Пять золотых солнц слились в олимпийскую эмблему и мелко задрожали в белом сиянье, распространяя по стылой бетонной пещере, сотрясаемой ломами и кувалдами райских жителей, неземной аромат.
Козлов смахнул рукавицей со стола на пол остатки предыдущей скудной трапезы, проворчав в изумлении: «Ты посмотри — и холод их не берет! Должно быть, беженцы. Мои-то давно с голода передохли. И перестройка им, понимаешь, нипочем. Живучие твари. Что ни говори, а таракан — это звучит гордо». Тотчас же из-под поленницы выбежала мышка, но на полпути к крошкам остановилась и вопросительно посмотрела на Руслана.
— Это Машка, — представил ее Козлов, — существо воспитанное, интелли-гентное. Многодетная мать. Обижать ее не надо.
Ободренная Машка схватила кусочек хлеба и шмыгнула в дровяную спальню.
Козлов подставил под хлебную люстру табуретку, и, взгромоздясь, достал из авоськи булку — серый второсортный кирпич, слегка подмороженный и заиндевевший.
Долго с легким презрением рассматривал он бурого медведя на этикетке прозрачной бутылки.
— Вообще-то мы с Машкой как существа интеллигентные по утрам воздерживаемся. Как правило, — поделился он своими сомнениями, — но уж слишком много всего случилось в это утро. Ты-то как относишься к этой вредной привычке?
Руслан неопределенно пожал плечами:
— Не каждый день с отцом знакомишься.
— Да ты, я погляжу, совсем продрог, — внезапно пробудился родительский инстинкт в Козлове.
Он пошарил в шкафу и достал два игрушечных ведерка из пластмассы. Одно белое, другое желтое. Обдул их и поставил на стол — желтое себе. Подумал-подумал и поменял на белое.
— Ну, по ведру за встречу — и за работу. А тебе мой совет — пить пей, но никогда не похмеляйся. Это мне перед смертью дед завещал. Егором звали. Если бы вовремя дали похмелиться, до сих пор бы жил…
Выпили и не поморщились. В душах пробудилась взаимная симпатия.
Промерзшая берлога стала довольно уютным местом.
Козлов ножом прочертил границу по сковороде: себе отделил два яйца, Руслану три. Руслан взял нож и разрезал нечетное яйцо надвое. Потом самокритично стукнул себя кулаком по короткошерстной голове и раскрыл сумку. Промерзшую, провонявшую пеликаном Петькой квартиру заполнили запахи южной осени.
— Да, — сказал Козлов с уважением, — такую красоту и есть жалко.
— Апорт, — пояснил Руслан, — с нашей дачи. Такое и в Алма-Ате сейчас не увидишь. Вырождается.
Козлов отер лезвие ножа хлебной коркой и нарезал яблоко на ломти, как арбуз.
— Батя… Можно я тебя батей буду звать? Это ничего, что я к тебе приехал?
Козлов поднял руку в неопределенном жесте.
— Живи. А станет невмоготу — автобусы еще иногда ходят.
— Батя, а когда ты меня в последний раз видел?
Козлов перестал жевать и, уставившись на хлебную люстру, задумался, дирижируя вилкой в такт исчисляемым годам. Наконец, подбив итог, сказал:
— Ну, в общем, я тебя сегодня в первый раз и увидел.
Настала пора разглядывать хлебную люстру Руслану.
— В смысле, я еще не появился, когда вы с мамой разбежались?
Козлов снова посмотрел на люстру, подергал себя за бороду и сказал сурово:
— В общем, так. Отдыхай. Заодно и барахло постережешь. А я малость поработаю. Приду — добеседуем.
— А где ты работаешь?
— О! Работа у меня важная. Работа нужная. Работы много. Могилы я рою.
Руслан выпил свои полведерка, подергал себя за нос, сдерживая гримасу отвращения. Уж лучше на кладбище прогуляться, чем нюхать духи пеликана Петьки.
— Я с тобой.
— Как раз в таких туфлях могилы и роют, — одобрил его намерения Козлов.
Полез в шкаф и вытащил валенки. Из одного извлек хорошо початого «Медведя», из другого вытряхнул мышку. Мышка была незнакомая, безымянная. Представлять ее он не стал. Переворошил в шифоньере с оторванной дверцей кучу тряпья и выбрал нечто, похожее то ли на большой платок, то ли на маленькую скатерть. Критически осмотрел ткань на просвет и разорвал надвое. Получились замечательные узорные портянки с китайскими драконами. Затем выдернул из-под ковра и двух одеял тулуп, служивший матрацем, встряхнул и сказал одобрительно:
— Совсем другое дело. Одевайся, на человека будешь похож.
И спрятал бутылку из валенка и початую бутылку от Павловны на полку.
Руслан посмотрел на обрамленные поленницей из березовых и осиновых дров коричневые корешки переплетов. Затертым золотом на них были оттиснуты фамилии старых философов. Бердяев, Федоров, Соловьев. Отдельно стояли две особо потрепанные книги — «Мамонты» и «Вечная мерзлота». Библия, Коран. «Путь Дао». Руслан относился к людям, которых очень легко занять. Достаточно подвести к книжной полке. Но вниманием его завладел предмет, стоявший между «Мамонтами» и «Вечной мерзлотой», который он принял за пепельницу. Из углубления торчали зубная щетка и наполовину скрученный тюбик пасты. Человек, который чистит зубы, отметил Руслан, не совсем пропащий человек. Он взял серый булыжник в руки. Козлов замычал, схватившись за челюсть.
— Положи на место, — попросил он поспешно.
Руслан поставил булыжник на полку, и по лицу старшего Козлова растеклась благодать.
— Что это? — спросил Руслан.
— Зуб.
— Я имею в виду это, — протянул он руку к булыжнику.
— Не трогай! — взмолился Козлов. — Я же говорю — зуб. Зуб мамонта.
— Нет, экскаватор на кладбище — как-то не по-человечески. А еще хуже, когда баллоны жгут, чтобы мерзлоту растопить. Копоть, грязь. Не кладбище, а свалка. Мертвых людей уважать надо. Они это заслужили.
— Чем это они заслужили? — спросил Руслан.
— Умерли вовремя. Лежат себе тихо. Про будущее не врут. На прошлое не плюют. Гадостей никому не делают, землю не засоряют. Хоть и мертвые, а все равно люди. Кладбище — архив истории. Жил такой Федоров, библиотекарь, так он вообще говорил — музей. Хранилище.
— Чего — хранилище?
— А людей. До воскрешения.
— Чему там воскресать? — не поверил Руслан, разглядывая пожелтевшую фотографию старика на жестяной пирамиде.
— Может быть, и так, — согласился без энтузиазма Козлов, вытаптывая в сугробе правильный прямоугольник.
Аккуратно вырезал штыковой лопатой кирпич из плотного снега и пояснил:
— Чем грязнее работа, тем чище надо работать. Для самоуважения. В нашей профессии без самоуважения нельзя.
Руслан взял совковую лопату. По тому, как неуклюже отбрасывал снег, было видно, что делал он это не очень часто. А может быть, не делал никогда.
Когда обнажилась земля, Козлов острым концом лома наметил границы могилы, одновременно прикидывая ее размеры: «Главное — продолбить верхний слой, мерзлоту. Хочешь погреться? Подолби. А я схожу кормильцев проведаю».
И он пошел вдоль выглядывающих из сугробов крестов и звезд, оставляя в скрипучем снегу глубокие следы, а в синем небе белые облачка дыхания. Солнце слегка золотило их. И они растворялись над могилами без следа: золотое в белом, а белое в синем. Неуловимые, как души лежащих под настом и мерзлотой людей. Следы наполнялись небесной синевой. Попетляв между занесенных снегами памятников, он остановился у могилы без особых примет. Белое облако дыхания сменилось голубым табачным дымом. Руслан, долбя железом мерзлую броню планеты, между делом поглядывал на сутулую спину чужого существа, которое было его отцом, и думал, что мужик, которому приятно быть на кладбище, конченый человек. Козлов думал о том же, но в обратном смысле: хорошо бы, если бы люди, от которых зависит судьба народа, почаще бывали на кладбище. И не на столичном, где надгробья ставятся для тщеславия. А на родном деревенском погосте, где в забвении лежат близкие люди. Без свиты и охраны постоять над милым прахом, посмотреть на себя глазами мертвецов, которым уже нет смысла притворяться, и подумать о вечном. Какой отчаянной смелостью должен обладать обыкновенный человек, чтобы взвалить на себя страшную ношу Бога — ответственность за судьбы людей. Нужно быть наивным ребенком, сумасшедшим, мошенником или святым. Но в то, что среди пастырей народа когда-то были, есть или будут святые, Козлов не верил.