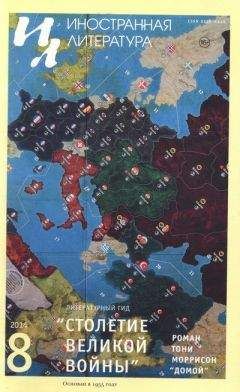Она направилась к главному выходу; дверь медленно открылась, и на пороге возникли четыре размытых силуэта, устремившиеся навстречу Марианне; постепенно смутные очертания, мадам Лимбр страдала близорукостью, складывались в фигуры и лица: родители двух других кабальеро, Кристофа и Йохана, — стройная шеренга; одинаковые тяжёлые зимние пальто, давящие на плечи; одинаковые шарфы, обмотанные вокруг шеи, напоминают медицинские корсеты, поддерживающие голову; одинаковые перчатки. Они уже заметили её, узнали, замедлили шаг, а потом, сломав строй, вперёд вырвался мужчина, чтобы подлететь к Марианне и заключить её в объятия; каждый из подоспевшей троицы тоже обнял знакомую. Как обстоят дела? Вопрос задал отец Криса: все четверо замолчали; они смотрели на Марианну, которая внезапно окаменела. Прошептала: он в коме, мы пока ещё ничего не знаем. Она пожала плечами, её губы болезненно скривились: а вы? как мальчики? Слово взяла мать Йохана: у Криса перелом левого бедра и малой берцовой кости; у Йохана переломы обоих запястий и ключицы, проломлена грудная клетка, но внутренние органы не задеты; она чрезвычайно сдержанна, и эта излишняя сдержанность призвана донести до Марианны, что они, все четверо, прекрасно осознают, как сильно им повезло; чертовская удача: их дети отделались лишь переломами — они ведь были пристёгнуты; женщина специально преуменьшала степень своего волнения, воздерживаясь от излишних комментариев: она желала заверить Марианну, что они знают, как обстоят дела у Симона; всё серьёзно, очень серьёзно, слухи из реанимации доползли до травматологии и до ортопедической хирургии, где находятся их сыновья, она сочла возможным упомянуть об этом; и наконец, женщина была крайне сдержанна, ибо испытывала неловкость, даже вину: Крис управлял машиной, то есть он просто обязан был пристегнуться, а вот их сыновья — слепой случай, нелепый жребий: посередине мог сесть не Симон, а Йохан, и тогда сейчас на месте Марианны находилась бы она; это она столкнулась бы со страшным несчастьем, — от одной только мысли женщина испытала головокружение: её ноги ослабели и подкосились, в глазах потемнело; муж, почувствовавший, что супруге дурно, приблизился и взял её под руку, чтобы поддержать, а Марианна, глядя на поникшую женщину, внезапно тоже осознала, какая пропасть, непреодолимая пропасть теперь разделяет их: спасибо, я должна идти; созвонимся позднее.
Она вдруг поняла, что не хочет возвращаться домой: ещё не пришло время встретиться с Лу, поговорить с матерью, позвонить дедушке и бабушке Симона, сообщить друзьям; ещё не время слышать, как они паникуют и страдают, а некоторые кричат, заламывая руки: о нет, боже, чёрт подери, дьявольщина, это неправда, не может быть; кто-то рыдает; кто-то изводит её вопросами; произносит умные слова; сыплет неизвестными медицинскими терминами; приводит в пример случаи чудесного исцеления, когда, казалось бы, надежда была потеряна; рассказывает о каких-то общих знакомых; обвиняет во всём госпиталь, диагноз, диагноста; критикует методику лечения; даже спрашивает фамилию лечащего врача; ах, надо же, я его не знаю; ах, никогда не слышал о таком; о, конечно, наверное он хорош; и всё же настаивает, чтобы она записала номер телефона великого профессора, он уже два года не принимает, но надо попробовать, даже вызывается позвонить светиле лично: ведь они с ним приятели; или же он знает приятеля профессора; а может быть, найдётся кто-то настолько глупый, что попытается доказать ей, внимание, что врачи путают терминальную кому с другими похожими состояниями: например, с алкогольной комой, с передозировкой анальгетиков, с гипогликемией или ещё с гипотермией, и скажет о сёрфинге в холодной воде, — и тогда её замутит, но она сдержит рвотный позыв, возьмёт себя в руки и напомнит мучителю, что речь идёт о несчастном случае, об ужасной автомобильной аварии, и будет противостоять им всем, повторяя, что о Симоне хорошо заботятся, что надо ждать, только ждать; тогда они захотят окружить её заботой, окутать словами, пустыми словами; нет, это время ещё не пришло, и всё, чего хотела Марианна, — найти какое-нибудь место, где можно подождать, скоротать время; ей нужно убежище; она дошла до автостоянки, а потом внезапно побежала прямо к своей машине, нырнула внутрь и стала колотить кулаками по рулю; уронила голову, волосы разметались по приборной доске; руки дрожали; движения были такими лихорадочными, что Марианна с трудом вставила ключ в зажигание, а когда тронулась, слишком сильно надавила на газ, и шины завизжали, соприкоснувшись с асфальтом; затем она двинулась навстречу западному ветру; туда, где светлое небо по-прежнему обнимало город; в это время Револь вернулся к себе в кабинет, но не сел за письменный стол, а поступил так, как предписывает закон, когда реанимация ставит диагноз «смерть мозга»:[35] он снял телефонную трубку и набрал номер Координационного центра трансплантации органов и тканей — ответил ему Тома Ремиж.
* * *
Меж тем он чуть было не пропустил вызов — мог просто не услышать звонок, — но певец как раз брал дыхание в конце особенно длинной, насыщенной фразы, вокальная полифония, взлёт птиц; «Рождественские песни» Бенджамина Бриттена, опус двадцать восемь,[36] и тогда он различил тихое пиликанье телефонного аппарата — нежные и прекрасные трели щегла, запертого в клетке.
Тем воскресным утром, в квартирке на первом этаже дома по улице Капитана Шарко, Тома Ремиж задёрнул венецианскую штору; он был один, совсем голый, и пел. Тома стоял в центре комнаты, всегда на одном и том же месте: вес тела распределён на обе ноги, спина прямая, плечи слегка отведены назад, грудная клетка открыта, шея свободна, чтобы можно было расслабить позвонки; мужчина несколько раз медленно повращал головой, потом плечами, сначала одним — затем другим, после чего постарался вообразить воздушный столб, начинающийся в выемке живота и идущий к горлу; представить себе эту «внутреннюю трубу», проталкивающую воздух и заставляющую голосовые связки вибрировать; ещё раз убедился в том, что он стоит «правильно». И вот наконец Тома открыл рот; открыл очень широко, несколько забавная, даже глуповатая гримаса, позволил воздуху наполнить лёгкие, напряг пресс, выдохнул, начал пассаж, стараясь максимально продлить его, мобилизуя диафрагму и мимические мышцы, — даже глухой смог бы «услышать» Ремижа, приложив руку к его телу. Свидетель этой сцены наверняка усмотрел бы в ней какой-нибудь намёк на древний шаманский ритуал, гимн восходящему солнцу или утреннюю молитву монаха-затворника, лирика рассвета; а может быть, он решил бы, что это обычная утренняя церемония, повторяемая изо дня в день и призванная укрепить тело: выпить стакан прохладной воды, почистить зубы, положить на пол резиновый коврик и начать гимнастику под бодрые вопли телевизора — однако для Тома Ремижа во всём этом крылось нечто совсем иное — познание самого себя: голос, как зонд, проникал в организм и доставлял на поверхность всё, что его оживляло; голос как стетоскоп.
В двадцать лет Тома покинул семейную ферму — зажиточный хутор в Нормандии, которым теперь управляли его сестра и её муж. Покончено со школьным автобусом и с грязью во дворе, с запахом влажного сена, с мычанием запертой недоенной коровы, с ровным частоколом тополей, растущих на травянистом склоне; теперь Тома живёт в крошечной студии в самом центре Руана, её ему сняли родители: электрический радиатор, раскладной диван; ездит он на пятисотой «Хонде» 1971 года; учится на медбрата; любит и девочек, и мальчиков, сам не знает, кого больше; и вот однажды во время поездки в Париж Тома оказывается в караоке-баре в Бельвиле: здесь полным-полно китайцев, виниловые волосы, восковые скулы; множество завсегдатаев, готовых выступить на публике, в основном парочки; влюблённые восторгаются друг другом, всё время фотографируются, имитируя жесты и ужимки, подсмотренные в телепередачах, — как вдруг, уступая уговорам своих спутников, Тома тоже отваживается выбрать песню: небольшой музыкальный отрывок, узнаваемая мелодия, вероятно, «Хартэйк» Бонни Тайлер;[37] теперь его черёд подняться на сцену — и происходит метаморфоза: безвольное тело обретает твёрдость, голос рвётся изо рта; этот голос принадлежит ему, Тома, но он ничего о нём не знает: незнакомы ни тембр, ни регистр, ни фактура, словно его тело поселило внутри себя иную версию его самого, полосатого хищника, обрывистый берег, уличную девку; ди-джей не мог ошибиться: это действительно поёт он, Тома Ремиж; так вот: воспринимая этот незнакомый голос как собственную подпись, как новый способ самоидентификации, осознания своей уникальности, он понял, что хочет познать себя, — и поэтому начал петь.