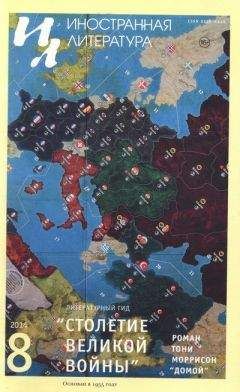Он сказал мужайтесь. Марианна повторяла это слово всё время, пока поднималась на верхний этаж, — какой долгой оказалась дорога к Симону: этот ужасный госпиталь напоминает лабиринт, стенки лифта покрывали рабочие инструкции и объявления, расклеенные профсоюзом; мужайтесь, он сказал мужайтесь: её веки слипались, ладони стали влажными, из раскрывшихся пор сочился пот; от жары её лицо изменило черты — и это проклятое мужайтесь: проклятое отопление! тут что, вообще нет воздуха?
Реанимация занимала всё правое крыло первого этажа. На массивных дверях выделялась надпись, сообщавшая, что проход разрешён только медперсоналу, поэтому Марианна решила подождать на лестничной площадке; она прислонилась к стене, затем позволила себе соскользнуть, присела на корточки; голова раскачивается из стороны в сторону; затылок не отрывается от шершавой поверхности; лицо обращено к потолку, по которому бегут неоновые трубки; смежив веки, Марианна продолжала вслушиваться в голоса, летящие из конца в конец коридора, в деловые разговоры, в тихий шум шагов, каучуковые подошвы, гимнастические тапочки или обыкновенные лёгкие кроссовки, в это металлическое позвякивание, в эти тревожные звонки катящихся медицинских тележек, в этот типичный шум больницы. Она проверила телефон: Шон не звонил. Надо встать и идти, приблизиться к двойным створкам огнеупорной двери, окаймлённым чёрной резиной, и, встав на цыпочки, заглянуть в небольшое стеклянное окошко. Всё тихо. Марианна толкнула дверь и вошла.
* * *
Он сразу понял, что это она, полубезумный вид, лихорадочный, затравленный взгляд, запавшие щёки, и даже не стал спрашивать, она ли мать Симона Лимбра, — просто протянул руку и покачал головой: Пьер Револь, дежурный врач отделения; вашего сына утром осматривал я, идите за мной. Марианна инстинктивно опустила голову, уставилась на линолеум и, стараясь не глядеть по сторонам, в надежде увидеть своего ребёнка где-то во тьме боковых кабинетов, прошла метров двадцать по светло-сиреневому коридору и остановилась у самой обычной двери, на которой висела квадратная табличка с именем хозяина кабинета; букв она не разобрала.
В то воскресенье Револь обошёл вниманием семейный зал, который очень не любил, и провёл Марианну прямо в свой кабинет. Несколько мгновений она стояла, затем присела на краешек стула; тем временем Револь обошёл письменный стол и скользнул в кресло; грудь колесом, локти чуть отведены назад. Марианна смотрела на него, и постепенно все лица, которые ей довелось увидеть по приезде в госпиталь, — женщина с густыми бровями из приёмного покоя, молоденькая медсестра-практикантка, врач с розовым воротничком — наложились друг на друга, смешались, чтобы превратиться в одно-единственное лицо: лицо этого человека, который сидел напротив и явно намеревался заговорить.
Хотите кофе? Марианна вздрогнула и кивнула. Револь встал, повернулся спиной, взял кофейник, которого она не видела, плавные жесты, молчание, плеснул кофе в кружки из белого пластика; напиток дымился, вам положить сахар? Он выжидал, готовил речь, и она знала это, но согласилась на предложенный неспешный ритм, хотя испытывала почти парадоксальное напряжение: время утекало, как кофе из кофеварки, и всё взывало к срочности, всё указывало на радикальный характер ситуации; именно эта срочность, это давление заставили Марианну прикрыть глаза, сделать глоток и полностью сконцентрироваться на жидком огне, проникающем в горло; она так страшилась первого слова первой фразы — челюсть движется; губы начинают шевелиться, вытягиваться, приоткрываться, обнажая зубы, а иногда и кончик языка, — эта фраза пропитана несчастьем; она ещё не родилась, но Марианна уже знала, и всё естество её бунтовало; она сгорбилась, позвоночник вжат в спинку стула, неустойчивого стула: голова уезжает назад; больше всего на свете ей сейчас хотелось броситься вон из кабинета, открыть дверь и бежать куда глаза глядят; а ещё больше ей хотелось просто исчезнуть, испариться, провалиться в люк, внезапно возникший прямо под ножками стула: пуф! — и дырка, подземная тюрьма, где все о ней забудут, никогда её не найдут, а она будет знать лишь одно: что сердце Симона всё ещё бьётся; она хотела расстаться с этим слишком замкнутым кабинетом, с этим сине-зелёным светом; сбежать от новостей; в ней не было ни капельки мужества, мужайтесь, — она пыталась перехитрить саму себя; юлила, как уж на сковородке; она отдала бы всё, что у неё есть, лишь бы её успокоили, лишь бы наврали; пусть ей рассказывают страшные истории, но у каждой должен быть хеппи-энд; Марианна вязла в отвратительном страхе, но твёрдо верила: каждая прожитая секунда — военный трофей; каждая секунда тормозит бег неумолимого рока; и, глядя на её нервные руки, на сплетённые ноги, на прикрытые припухшие веки, ещё хранившие следы вчерашней косметики — угольно-чёрные тени, подчёркивающие цвет глаз, полупрозрачный нефрит, озёрная вода, уверенно нанесённые кончиком пальца на подрагивающие ресницы, — Револь понял, что она всё поняла; знал, что она знает; именно поэтому он, с бесконечной мягкостью, согласился растянуть время, предшествовавшее его речи; Револь подхватил сувенир из Венеции и стал катать его по ладони: в холодном свете неона стеклянный шарик отливал всеми цветами радуги; эти радужные венозные сполохи, гулявшие по стенам и потолку, на миг задержались на лице Марианны, которая открыла глаза, и для Револя это стало сигналом: он мог начинать.
— Ваш сын находится в тяжёлом состоянии.
После первых произнесённых слов, приятный тембр, размеренная речь, Марианна подняла глаза — сухие — и посмотрела в глаза Револю; он тоже смотрел на неё: ведь фраза прозвучала, а дальше простыми понятными предложениями, ясность без жестокости, — семантика фронтальной точности; largo,[32] разбитое паузами, которые дополняют смысл, — достаточно медленно, чтобы Марианна могла прокрутить в голове каждое слово, каждый услышанный слог, запомнить их: во время аварии ваш сын получил черепно-мозговую травму; сканирование показало значительные повреждения в районе лобной доли; медик поднёс руку к собственному черепу, иллюстрируя свои слова: сильнейшее сотрясение спровоцировало кровоизлияние в мозг; когда Симона доставили в госпиталь, он уже был в коме.
Кофе в кружке остыл, Револь пил его не спеша; Марианна, сидевшая напротив, превратилась в каменную статую. Раздался телефонный звонок — один гудок, второй, третий, — но Револь не стал брать трубку; Марианна буквально пожирала врача глазами: шёлковая белизна кожи, синева под глазами прозрачного серого цвета, тяжёлые веки в морщинках, ореховая скорлупа, удлинённое лицо; телефон умолк; спустя несколько мгновений тишины Револь снова заговорил: я обеспокоен, собственный голос удивил медика: он был необъяснимо пронзителен, словно кто-то подкрутил ручку громкости: в данный момент мы уже проводим все необходимые исследования, и первые результаты не обнадёживают; его голос звучал, бился в ушах Марианны, но к нему примешивался некий посторонний звук, звук её участившегося дыхания; голос врача не обволакивал, как те отвратительные голоса в морге, голоса, которые стремятся утешить: для Марианны он был путеводной нитью.
— Речь идёт о глубокой коме.
Секунды, последовавшие за этим заявлением, образовали между собеседниками полосу отчуждения: голое, безмолвное пространство, непреодолимая река, и каждый из них застыл на своём берегу. Марианна Лимбр пробовала на вкус странное слово кома; Пьер Револь коснулся чёрной стороны своей работы; шарик по-прежнему катался по ладони, тусклое, одинокое солнце, и ничто не казалось ему таким сложным, таким жестоким, как необходимость находиться рядом с этой женщиной, необходимость увлечь её на тонкий лёд разговора, в котором, как призрак, маячило слово смерть: а ведь они должны сделать это шаг вместе, синхронно. Револь сообщил, что Симон больше не реагирует на боль, у него обнаружены зрительные и вегетативные расстройства, прежде всего дыхательное, и признаки закупорки лёгких; к тому же не радуют первые томограммы — фраза тягучая: Револь останавливается, чтобы сделать очередной вдох; он чеканит, формирует каждое предложение, лепит слова так, чтобы Марианна увидела всю фразу целиком, коснулась её; он старается превратить клинический диагноз в эмпатию; говорит, словно вырезает узоры на ткани; и теперь они смотрят только друг на друга, глаза в глаза, лицо в лицо, абсолютное единение; сообщники, лицевая сторона и изнанка, оригинал и отражение, — весь мир остался где-то за пределами этого разговора, и, в то же время, кажется, будто этот разговор, эта возможность смотреть глаза в глаза, позволяет ей увидеть и принять то, что происходит в одном из больничных кабинетов.