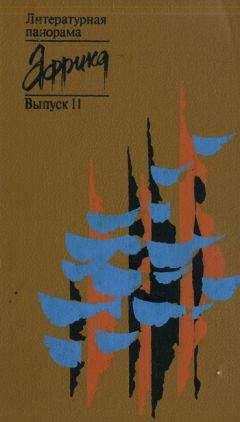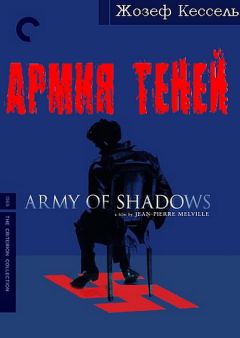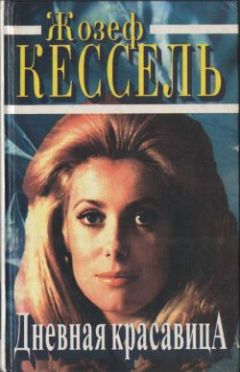Когда сержант поднял руку, было поздно — он опоздал на мгновение. Клыки Банго уже сомкнулись. Руки дирижера бессильно повисли, он пошатнулся — раз, другой, третий. У Банго вся морда была залита кровью, хлынувшей из прокушенной артерии, но его зубы все не выпускали горло сержанта. В конце концов огненный мундир повалился на землю.
В тот же миг двери особняка с шумом отворились, и на пороге показались леди Синтия и сэр Персивал в сопровождении трех вооруженных слуг. Я тотчас бросился ничком на лужайку, скатился в ближайшие кусты и там затаился. Никто из них меня не видел.
Так, не обнаруживая себя, я имел возможность все видеть и слышать. Но я весь дрожал под своей роскошной зеленой одеждой, изодранной шипами и колючками.
Леди Синтия приблизилась к распростертому сержанту, наклонилась над ним, рассмотрела при свете луны его лицо. Потом взглянула на Дэзи. Девочка гладила Банго, и тот слизывал со своих губ еще свежую кровь.
«Унесите тело! — приказала леди Синтия слугам. — Это обычный несчастный случай с пьяным солдатом…»
Потом она обратилась к Дэзи:
«Ступай в мою спальню, отныне ты будешь спать там».
И наконец, к сэру Персивалу:
«Пусть сюда немедленно явится начальник полиции вместе с английским консулом. Я им все объясню…»
«А кто… словом… кто этот мертвый солдат?» — нерешительно поинтересовался сэр Персивал.
Но вместо ответа леди Синтия поторопила:
«Я же сказала, нужно позвонить немедленно».
Сэр Персивал не стал больше расспрашивать. Пожилая дама постояла некоторое время на лужайке — высокая, прямая, неподвижная; ее взгляд был устремлен на луну.
Банго облизывал губы.
«Я велю умертвить тебя так, чтобы ты не мучился», — тихо промолвила леди Синтия и скрылась в роскошном особняке.
Я вылез из кустарника, разыскал свою прежнюю одежду, переоделся и, охваченный ужасом, кинулся прочь…
Я бежал очень быстро; к тому же слишком много разных чувств пришлось мне пережить за минувшие день и ночь. Словом, на полдороге в Танжер я почувствовал смертельную усталость. Ноги у меня подкосились, я упал в поле и довольно долго проспал. Солнце уже клонилось к закату, когда я добрался до пригорода. Усталость все не проходила. Я поплелся в центр города. Как вдруг, не доходя до площади Франции, мои ноги сами пустились бежать… Я услыхал звуки волынок.
И действительно, по бульвару в сторону порта шли колонной солдаты в юбках шафранового цвета и в леопардовых шкурах, и чудесные бурдюки пели и причитали при каждом их шаге. А во главе колонны шел высокий сержант в черных брюках и огненно-красном мундире. Он манипулировал длинным-длинным жезлом с кистью, мерцающей, словно звезда.
При этих словах Зельма-бедуинка пронзительно закричала:
— Привидение! Храни нас пророк! Привидение!
— Да нет же, успокойся, женщина, — вмешался бездельник Абд ар-Рахман. — Просто другого солдата одели в такую же форму.
— Или же вызвали из Гибралтара другого дирижера… — заметил уличный писец Мухаммед.
И Башир им ответил:
— Чтобы выяснить это, я решил последовать за волынщиками в порт и понаблюдать за ними до отплытия.
— И что? И что? — послышалось со всех сторон.
— Судьба каждую минуту готовит нам сюрпризы, — вздохнул горбун.
Потом он сказал:
— Мы уже были не так далеко от порта, как вдруг я увидел, что нам навстречу под звуки медных труб, барабанную дробь и пение флейт идет другой военный оркестр. Это сошел на берег испанский легион, чтобы принять участие в празднествах по случаю Большой недели Танжера. И впереди всех, один, без надзора, двигался здоровенный боров — в медной сбруе с блестящими бубенчиками. Он шел в ногу с солдатами, и бубенчики позвякивали в такт движению.
И тогда я последовал за боровом.
Башир закончил свой рассказ. Долго не стихали одобрительные возгласы и похвалы в его адрес. Внезапно недовольный голос заставил толпу утихнуть.
— Скажи нам, о Башир, — попросил Сейид, уличный чтец, — скажи на милость, почему ты именно сегодня набрался смелости и поведал нам то, что так долго скрывал?
— Охотно скажу, — ответил Башир. — Леди Синтия теперь в Англии, где она должна отдать Дэзи в какую-то школу с очень строгими религиозными порядками. Я узнал об этом от ее шофера сегодня утром, прямо здесь, на Большом базаре.
Тут Башир обернулся к Омару и Айше. Мальчик снял свою большую феску, девочка подставила тамбурин, и они собрали то, что правоверные соблаговолили им бросить.
Абд аль-Меджид Шакраф, американец
Неделю спустя Башир вновь появился на Большом базаре. На сей раз, чтобы привлечь к себе внимание, ему не нужно было петь, а Айше — бить в тамбурин. Увидев Башира, люди сбежались со всех концов и с готовностью расселись в кружок.
И маленький горбун заметил в толпе Зельму-бедуинку, бесстыдницу, всюду сующую свой нос, а рядом с ней Ибрагима, молодого сноровистого продавца цветов. И еще были в толпе всеми уважаемый старец Хусейн, торговавший сурьмой, и Абдалла, слепой рыбак — благодаря своей слепоте он не видел многих неприглядных картин жизни. Но были в толпе и новые лица. Среди них Башир узнал Кемаля, заклинателя змей, Галеба, водоноса, и беззубую старуху Фатиму.
Улыбнувшись всем — знакомым и незнакомым, Башир начал так:
— Вы, конечно, помните, друзья мои, как были изумлены жители нашего города, когда к нам пожаловал Абд аль-Меджид Шакраф, и какие удивительные поступки он совершил, едва появившись у нас. Вы частенько встречали его то на улицах, то на террасах кофеен на Малом базаре. Но никто из вас, я уверен, не знает, куда и почему он так внезапно исчез, чего он вообще искал в наших краях и что в конце концов нашел. Выслушайте же горбуна Башира, которому Аллах в своей беспредельной милости пожелал открыть эти тайны.
— Мы слушаем! Слушаем! — раздались голоса в толпе. — Смотри, ничего не забудь и не утаи от нас!
И Башир продолжил:
— Никогда еще я не был так голоден. Прошло совсем немного времени с тех пор, как я покинул владения леди Синтии на Горе, где мне не приходилось самому заботиться о пропитании. Живя там, я стал похож, о братья мои, на бродячего пса, которому вдруг достался надежный кров: я утратил привычку каждый день бороться с нуждой. У меня уже не было того острого глаза и тех быстрых ног, что прежде. Все теплые местечки близ ресторанов были заняты. Щедрые люди приобрели себе новых друзей среди маленьких чистильщиков обуви, попрошаек, уличных продавцов газет, арахиса и цветов. Айша и Омар, долгое время лишенные моей заботы, не знали, как выбраться из трудного положения. Я продал свою добротную одежду и вновь облачился в лохмотья. Но теперь я уже стыдился ходить оборванцем. Вот так и временное процветание может вскружить человеку голову, даже если эта голова покоится на двух горбах.
Итак, дела мои шли из рук вон плохо. Настолько плохо, что я решился искать то, к чему у меня совсем не лежит душа, — постоянную работу. Единственное, что я умею, — это работать подмастерьем у ткача. Но я ненавижу это занятие больше всего на свете. И есть за что: весь день и часть ночи ты корпишь в темной мастерской, а зарабатываешь ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Но чего не сделаешь, когда у тебя живот подвело! И я отправился в квартал ткачей, расположенный на полпути к старому городу.
В то утро мастерские были пусты и все хозяева и ремесленники с подмастерьями высыпали на улицу. Сбившись в кучки, они то и дело показывали на лавку Рахима аль-Данаба, старого индийца, который вместе с семьей торгует старинной богатой одеждой. Они кричали, что только индийцам может улыбнуться такое счастье И что вообще им везет даже больше, чем евреям. Как выяснилось, какой-то безумец, не найдя в лавках ничего себе по вкусу, — это у них-то, правоверных ткачей и портных! — зашел к Рахиму аль-Данабу и до сих пор от него не выходит.
Вдоволь посудачив, ткачи разошлись по мастерским. Однако они пребывали в столь дурном расположении духа, что я скорее мог получить от них пинок под зад, нежели работу. Так я и остался стоять на мостовой, как раз напротив лавки старого индийца. В окна я смутно различал, что все семейство в сборе и в лавке царит крайнее оживление. Не придав этому большого значения, я попытался открыть дверь — она оказалась запертой на ключ.
Тогда я приник глазом к замочной скважине. Внезапно дверь с силой отворилась, отбросив меня назад. На пороге стоял человек, какого я прежде никогда не видывал. Да и вы, пожалуй, тоже, друзья мои.
Вот так Абд аль-Меджид Шакраф впервые появился в нашем городе.
Он был высокого роста, упитанный, широкоплечий и широколицый. Одет сплошь в золото: его старинного покроя кафтан, широкие с напуском штаны, гораздо шире, чем носят теперь, бабуши, жилет, чалма — все было украшено, вышито, простегано золотой канителью или обшито золотой тесьмой. Держался он величественно, заполняя собой весь проем двери. Его вид напомнил мне картину в раме — парадный портрет вельможи. Но глаза у него были очень живые и полные тщеславия.