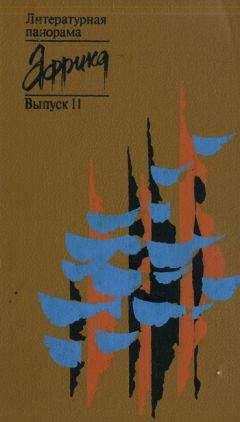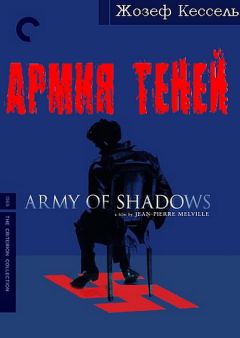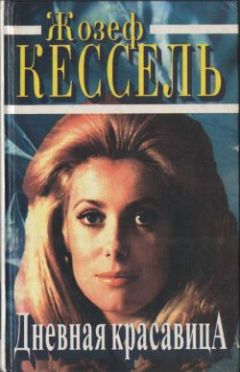Он был высокого роста, упитанный, широкоплечий и широколицый. Одет сплошь в золото: его старинного покроя кафтан, широкие с напуском штаны, гораздо шире, чем носят теперь, бабуши, жилет, чалма — все было украшено, вышито, простегано золотой канителью или обшито золотой тесьмой. Держался он величественно, заполняя собой весь проем двери. Его вид напомнил мне картину в раме — парадный портрет вельможи. Но глаза у него были очень живые и полные тщеславия.
Увидев его, я воскликнул:
«О ты, всесильный господин, незнакомец в этом городе! О ты, похожий на Харуна ар-Рашида[6]! Можешь ли ты быть таким же, как он, великодушным к бедняку, который приветствует тебя и воздает тебе хвалу?»
Человек в золоте внимательно посмотрел на меня, довольно улыбаясь в ответ, и по мере того как он меня разглядывал, его взор заметно теплел.
«Я недавно в Танжере, — сказал он, — и уже видел много несчастных детей, но из них всех ты выглядишь самым обездоленным — это так же верно, как то, что меня зовут Абд аль-Меджид Шакраф».
По-арабски он говорил чисто, без ошибок, но очень медленно, и я тогда решил, что этим он хочет придать себе больше достоинства. Стоя на пороге, он на некоторое время задумался, потом велел мне войти в лавку и распорядился, чтобы меня нарядили в красивую одежду и дали большой, сшитый из яркой ткани мешок. Когда все было сделано, мы вышли из лавки. В тот момент я был необычайно горд собой.
Сперва мы отправились на улицу Ювелиров, и пока мы шли, множество людей, привлеченных нашими костюмами, увязалось за нами. В каждой лавке, у каждого менялы этот человек разменивал крупные купюры на горсть песет и полупесет и бросал их в мешок, который взвалил на меня. Вскоре мешок так отяжелел, что я с трудом тащил его. Наконец мы пришли на Малый базар, и Абд аль-Меджид Шакраф уселся на террасе самой дорогой кофейни.
В мгновение ока вокруг него собралась стайка маленьких попрошаек. И тогда он воскликнул:
«Я желаю, чтобы этот день стал радостным для тех, кого обидела судьба, и я решил, что сегодня все они получат милостыню! Я доверяю моему секретарю Баширу распределить деньги сообразно достоинствам и нужде каждого».
О друзья мои! Новости такого рода быстро распространяются в Танжере. В несколько минут из старого города и со всех улиц, улочек, тупиков, со всех площадей и авеню нового города, и даже из пригородов сбежались ребятишки. Вместе с ними пришли и взрослые. Мужчины и женщины, молодые и старые, в грязных лохмотьях и с язвами на теле — кого там только не было! И все обращались ко мне. А я набирал из мешка полные пригоршни монет и сыпал их в протянутые ладони. Клянусь Аллахом и его пророком Мухаммедом — это был звездный час для Башира, нищего горбуна.
— И об этом ты мог поведать всем без опаски, — заметил Ибрагим, продавец цветов.
Те, кто слышали первый рассказ Башира, поняли намек и согласно кивнули. Другие же ничего не понимали, и соседи вынуждены были объяснить им, что имел в виду Ибрагим.
Терпеливо дождавшись, пока стихнут разговоры, Башир продолжил:
— В другой кофейне на Малом базаре сидел мой друг Флаэрти, журналист с рыжими усами, всегда ухитряющийся, уж не знаю как, находиться там, где происходит что-нибудь интересное. Но мне было не до него! Польщенный оказанной мне честью, я весь отдался новому для меня занятию.
Когда мешок с песетами опустел и люди стали расходиться, воздавая хвалу Абд аль-Меджиду Шакрафу, мой друг Флаэрти подошел ко мне и, подмигнув смеющимся глазом, попросил познакомить его со странным господином. Мы направились к столику, за которым сидел Абд аль-Меджид Шакраф, окруженный — словно султан придворными — почтенными торговцами и мудрыми толкователями Закона, имеющими обыкновение чинно распивать кофе в кофейнях на Малом базаре. Они были единственными, кто осмелился приблизиться к Абд аль-Меджиду Шакрафу. Неторопливо, с достоинством вели они беседу, и тут я подвел к ним моего друга Флаэрти и представил его. Я заметил, что при слове «журналист» в добрых глазах моего нового господина снова вспыхнул огонек тщеславия.
«Спроси его…» — начал было Флаэрти по-английски, обращаясь ко мне, поскольку я обычно играю при нем роль переводчика.
Абд аль-Меджид Шакраф расхохотался, хлопнул господина Флаэрти по плечу и сам заговорил по-английски на удивление свободно, бегло (чего нельзя сказать о его арабском), со всеми, правда, особенностями американского произношения.
Все вокруг были поражены, и Абд аль-Меджид Шакраф от души порадовался, видя такую реакцию окружающих. Он стал объяснять господину Флаэрти, что его сознательная жизнь началась в Нью-Йорке, куда он приехал пятнадцатилетним подростком в то достопамятное время, когда люди переезжали с места на место, не имея никаких бумаг с печатями, без которых сегодня просто шагу нельзя ступить. В Нью-Йорке он сперва торговал на улицах разными украшениями, бабушами и благовониями, потом открыл небольшой марокканский магазин, а потом магазин побольше. Мало-помалу ему удалось сколотить целое состояние. Американское правительство, куда входят самые богатые, самые могущественные люди в мире, согласилось признать его гражданином Соединенных Штатов Америки. Но теперь, спустя сорок лет, он пожелал вернуться в Танжер, который покинул голодным оборванцем, и зажить на широкую ногу, вызывая восхищение и зависть у земляков. И вот он здесь.
«Но не забывайте, друг мой, — то и дело повторял он господину Флаэрти, — что я гражданин самой богатой и могущественной страны в мире».
Будучи американцем, он и в самом деле чувствовал себя выше других людей. А Танжер он выбрал потому, что в этом городе мог лучше всего продемонстрировать свое особое положение.
Дабы упрочить его, он заказал у изумленных ремесленников американский флаг, в три раза больший, чем тот, что реет над зданием американского консульства. День, когда флаг был вывешен на красивом особняке, купленном в самом центре старого города, стал счастливейшим днем в жизни Абд аль-Меджида Шакрафа.
— Помню, помню, — проворчала старая беззубая Фатима. — Той материи мне с лихвой хватило бы, чтобы одеть всех своих ребятишек.
— Молчи, женщина! Что ты понимаешь в славе и почестях? — воскликнул бездельник Абд ар-Рахман.
И Башир продолжил свой рассказ:
— Первое время у моего нового господина все шло как нельзя лучше. Арабы любили его за длинные истории о прекрасной жизни за океаном, которые он рассказывал в мавританских кофейнях. Иностранцев он забавлял своим необычайным нарядом, и они с удовольствием проводили время в его обществе. В газетах Танжера, Рабата и Тетуана напечатали его фотографии и даже поместили рисунки моего друга, маленького старого Самуэля Горвица, которые Абд аль-Меджид Шакраф оплатил с неслыханной щедростью.
Однако незаметно для него самого положение изменилось. Люди ведь, друзья мои, быстро устают восхищаться, и тот, кого они еще недавно превозносили до небес, вскоре им надоедает и начинает их раздражать.
К тому же Абд аль-Меджид Шакраф обладал весьма досадной — для него самого — чертой характера: он был слишком добр. И его щедроты вызывали обострение скупости у соседей. Те стали распространять слух, что он-де сбивает цены и бедняки становятся несговорчивыми.
А тут еще Абд аль-Меджид Шакраф из лучших побуждений принялся всех поучать. Арабов он убеждал в том, что им непременно следует изменить образ жизни, навести чистоту и создать удобства в своих жилищах, лучше обращаться с домашними животными и со своими женами. Иностранцев он упрекал в том, что они бессовестно пользуются услугами арабов и ведут себя как хозяева в стране, которая им не принадлежит. Кончилось тем, что арабы стали считать его отступником, а чужеземцы — предателем.
Однако сам он ни о чем таком не догадывался и продолжал благоденствовать под звездами своего флага, словно под небесными светилами.
И вот в пятницу утром, как обычно, в Большую мечеть, что на вершине касбы, прибыл с процессией его высочество мандуб, наместник его величества султана, нашего повелителя. Чтобы присутствовать при этом событии, Абд аль-Меджид Шакраф облачился в самые дорогие свои одежды. Я сопровождал его, тоже одетый самым роскошным образом.
Все вы знаете, друзья мои, как великолепно выглядит процессия по пятницам. Впереди медленно движется его высочество мандуб, за ним следуют пешая и конная гвардии. Процессия пестрит множеством красок, и медь фанфар сверкает на солнце. На головах у отцов города фески — символ принадлежности к городской элите: у одних — меховые, у других ярко-красного цвета, у третьих — с золотой отделкой. И толпа правоверных, как всегда, пожирает глазами это пышное зрелище.
Однако на сей раз всеобщее внимание привлек Абд аль-Меджид Шакраф со своим двугорбым слугой. Сильным мира сего это не понравилось.