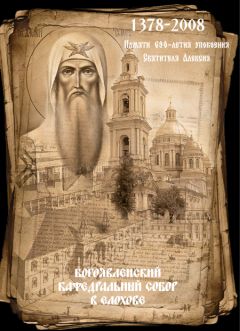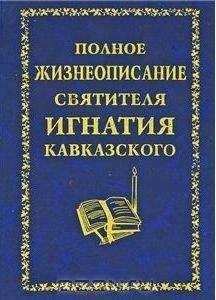Отец Михаил очнулся. Он увидел перед собою ее — близко, на расстоянии вытянутой руки, — и она заслонила всё. У нее были карие, золотистые, как будто немного печальные и ласковые глаза… и хотелось целовать эти глаза, хотелось сделать всё — совершеннейшая бессмыслица замелькала в мозгу: в клоаку города, в лес, в пустыню, пахать, торговать, взрывать!… — чтобы эти глаза были счастливы; брови у нее были черные и пушистые, и в чуть опущенных уголках ненакрашенных — или может быть тонко, бледно накрашенных — губ золотился пушок; она была невысокого роста, на голову меньше его, на ней был светлый струящийся плащ и светлый платок — наверное, снятый с шеи, потому что шея ее — белая, теплая, нежная — казалась беззащитно обнаженной в свободном вырезе кофточки, или блузки, или как это называется, открывающем хрупкие, светлые рядом с тенистыми ямочками ключичные бугорки… Он стоял и во все глаза смотрел на нее. Вот — это было счастье.
— Здравствуйте, — тихо сказала она.
Голос. Ее голос!…
— Здравствуйте… сестра, — наслаждаясь этим “сестра”, сказал отец Михаил.
Она застенчиво, чуть-чуть, улыбнулась. Отцу Михаилу стало трудно дышать. Не то чтобы он забыл, что идет исповедь, что его ждут люди, что впереди причащение Святых Тайн, — нет, он всё это помнил, просто ему больше всего на свете хотелось молчать и смотреть на нее — и он не мог совладать с собою и стоял и молчал… Наконец он сказал:
— Вы в первый раз у исповеди, сестра?
Она чуть кивнула.
— Я не так давно стала ходить в церковь… поверила в Бога.
— А как это случилось… сестра?
“Сестра, сестра, сестра… как это хорошо, как чудесно, как чудесно так говорить… Как мне с ней хорошо…”
— Я прочитала Евангелие, — сказала она, снизу вверх доверчиво глядя ему в глаза. — Мне подруга в аптеке дала… я работаю в аптеке. Я прочла и подумала: ведь это невозможно придумать, правда?
— Конечно, — легко и радостно сказал отец Михаил. Всё, что давило на сердце, исчезло: и нечистые его опасения, и чувство собственного ничтожества, и мука от осознания этого, и вина перед Богом… Сейчас в нем было только одно: он ощущал себя ее могучим, самоотверженным другом. — Вы знаете… мы, верующие, братья и сестры во Христе, обычно обращаемся друг к другу на “ты”. Вы не возражаете?
— Нет-нет, что вы, — испугалась она.
Он испугался того, что она испугалась.
— Как тебя зовут, сестра? — Он как будто прикоснулся — прикоснулся лаская — к ней этим “ты”: это было кощунственно, это было… но он как-то не почувствовал в этом кощунства.
Она два раза моргнула. Она моргала, как… лань. Отец Михаил так подумал — “лань”, хотя ни разу не видел, как моргает лань.
— Наташа.
— А меня — отец Михаил, — сказал отец Михаил и, как будто извиняясь перед ней, улыбнулся. При этом он заметил, как у него двинулась борода, и стороною подумал: “Надо постричь бороду… вот как у Василия. Зачем уж так-то, лопатой? Я ведь не старовер…” Кроме того, он почувствовал, что ему не хотелось говорить бесконечно привычное его и внутреннему, и наружному слуху “отец Михаил”, что ему бы хотелось — очень хотелось — сказать ей просто: “Михаил” — или даже, в ответ на ее простое “Наташа” — “Миша”, — ведь они были, наверное, ровесники…
Слева от них — там, где стояли люди в ожидании исповеди, — кашлянули. Отец Михаил понял, что ее… Наташу (теперь он знал, как ее зовут!), уже хотят у него отобрать, и, почувствовав раздражение (непривычное ему раздражение; вообще многие чувства, испытываемые отцом Михаилом сейчас, были непривычны или даже вовсе незнакомы ему), сурово, в осознании своей силы и власти — которых у него хватит, чтобы ее защитить, — посмотрел на очередь. В ней было три человека; первой стояла высокая жилистая старуха с недовольно поджатым и оттого неприятно-глубоко провалившимся ртом, — демонстративно поглядывала в сторону солеи, на которой никого, впрочем, не было: отец Филофей и Василий, в закрытом алтаре, приуготовляли Святые Дары, — только псаломщик Федя, одиноко стоя на правом клиросе, нараспев возглашал час третий. “Ну и куда ты торопишься?” — спросил про себя у старухи отец Михаил, — но тут к ожидающим вновь подошел, теребя бородку, Георгий, и следом за ним — незнакомая маленькая, серая, востроносая — совершенно воробьиного вида — старушка… Отец Михаил повернулся к Наташе, вздохнул — и чуть не развел руками.
— В чем ты хочешь исповедаться перед Господом, сестра Наташа? — ласково спросил он. Это “сестра Наташа” прозвучало, наверное, дико, он это почувствовал: он должен был назвать ее полным именем и по-церковному — “сестра Наталия”, но назвать ее так у него не повернулся язык. Это было еще более дико. “Буду называть ее просто "сестра"”, — подумал он.
Наташа опустила глаза. Отец Михаил вдруг заволновался. Вслед за этим — за первым своим, еще не осознанным волнением — он вдруг вспомнил отчего-то девицу в джинсах — и заволновался так, что тронул крест на груди.
— Отец Михаил… — неуверенно, тихо, не глядя на него, сказала Наташа; у нее была крохотная ямочка на кончике носа и чуть голубоватые веки с черными прямыми ресницами. Отец Михаил видел каждую ресничку. — Отец Михаил… я не люблю своего мужа.
В первое мгновенье его неприятно поразило слово “муж”: почему-то он раньше (или отчетливее) других услышал его (таинственна природа этого его неприятного удивления: оказывается, в недоступной его мыслящему “я” глубине крылась надежда, а может быть, и уверенность (надежда — для чего? уверенность — почему?…), что она не замужем; но он никогда отчетливо не думал об этом!), — в первое мгновение его неприятно поразило слово “муж”, но уже в следующее он воспринял всю фразу: “я не люблю своего мужа” — и она совершенно перевернула и… счастливо ошеломила его. “Хорошо, ах как хорошо! — прозвучало внутри него. — Как хорошо, что ты не любишь своего мужа!” Он вообще… как-то махнул на себя и на всё рукой. Вслух он сказал:
— А почему, сестра?
Он ожидал, что теперь, после ее признания, она поднимет голову и ответит, глядя ему в глаза — как они разговаривали до сих пор, — но она продолжала смотреть на Евангелие и крест, лежащие на аналое… и его вдруг охватил ватно обессиливший его страх: он был так рад видеть и слышать ее, что к нему не сразу пришла очевидная мысль: если она, такая красивая, нежная, молодая, не любит своего мужа, — значит, она любит кого-то другого!… Она молчала; он совсем потерял голову и быстро, настойчиво переспросил:
— Отчего же вы не любите вашего мужа?
Она подняла на него глаза — и, взглянув ей в глаза, он сразу счастливо успокоился.
— Нет-нет, я не испытываю к нему какой-то… вражды… просто он стал мне совсем чужим человеком. Понимаете… года три назад он занялся коммерцией, до этого был инженер, — продает какие-то вентиляторы; его интересуют только деньги… ох нет, что я говорю? Его и деньги не интересуют… мне кажется, его не интересует вообще ничего. — В ее тихом голосе зазвучало даже как будто раздражение — тихое, усталое раздражение. — Он как машина какая-то: уходит рано утром, приходит поздно вечером, а в воскресенье, — в субботу он тоже работает, — в воскресенье… ну, просто страшно смотреть: лежит целый день — просто целый день, с утра до вечера — и смотрит телевизор. Лежит на диване, курит и даже не встает, только нажимает кнопки на пульте… и, по-моему, ни одной передачи до конца не смотрит. С ним даже не о чем поговорить… то есть он со мною почти не разговаривает, да и мне не хочется с ним говорить. Ведь это плохо… плохо, отец Михаил?
Отец Михаил вышел из радостного недоумения (как это можно — жить рядом с нею и не обращать на нее внимания? И хорошо, и хорошо!) — и потерялся. Плохо?… Кому угодно другому он бы сразу сказал, что дурно здесь то, что к человеку, живущему без Бога в душе, должно испытывать сострадание (вспомнил чье-то ехидное: вера хороша уже тем, что люди сострадают друг другу: верующие — неверующим, неверующие — верующим…), что долг христианина — помочь блуждающему в потемках, тем более близкому, человеку нащупать дорогу к Богу… но говорить это Наташе отец Михаил не стал. Он — осторожно — сказал:
— Я не вижу в этом твоей вины, сестра. Ведь это твой муж (ему было неприятно произносить это — “твой муж”) отдалился от тебя. — Он помолчал. Долг боролся в его душе с чем-то дурным — этим дурным было то, что ему очень хотелось: пусть всё будет, как будет… даже не будет, а так, как было сейчас. Но здесь долг победил. — Ты… не пыталась обратить его к Богу?
— Это совершенно бесполезно, — горячо сказала она. — Если бы вы… ты… вы… — она напуталась и покраснела. Отец Михаил должен был — понимал, что так правильнее всего было бы — сказать: “Говори так, как тебе удобнее, сестра”, — но впервые прозвучавшее в ее устах обращение к нему “ты” было так приятно ему — он как будто ощутил ласковый, осторожный — прикровенный — толчок, доставивший ему наслаждение, — что он не смог побороть желания еще раз услышать и почувствовать это и — наверное, виновато и чуть напряженно, фальшиво улыбнувшись — сказал: