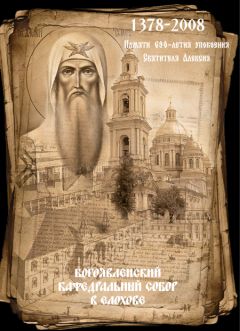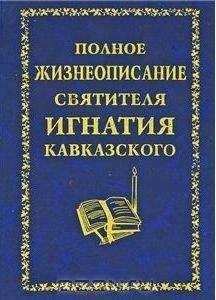Исповеди продолжались. Но не только исповеди — для столь частого покаяния у нее не хватало ни действительных, ни воображенных грехов. Она стала подходить к нему иногда после службы — это были короткие, одновременно радостные и томительные для отца Михаила встречи, во время которых она иногда просила разъяснить ей непонятное место в Евангелии, иногда жаловалась — она работала фармацевтом в аптеке, и ее, к великому изумлению и возмущению отца Михаила, сильно обижала начальница. На мужа она не жаловалась — о муже она вообще перестала говорить, но при этом отец Михаил как-то чувствовал, что в ее отношениях с мужем ничего не переменилось — и был этому рад (стыдно было — но был рад, рад, рад). Иногда… иногда она просто и ласково спрашивала его: “Как ваши дела?” (когда она пыталась в чем-то покаяться, она заученно обращалась к нему на “ты”; когда они говорили о чем-нибудь не на исповеди, — на “вы”, и это чередование “ты” и “вы”, на слух отца Михаила, только придавало их разговорам особое обаяние — волнующую таинственность и теплоту), — так вот, иногда — да не иногда, а в последнее время часто, можно сказать, всякий раз, — она тихо и ласково (и немного заговорщицки? — ведь в нескольких метрах всегда стояли люди, тоже желавшие поговорить с отцом Михаилом) спрашивала его: “Ну, как ваши дела?”, — и отец Михаил, обрадованный и взволнованный тем, что она, после двух-трех дней ожидания, наконец, пришла, рассказывал ей, как у него дела… а после ее ухода бывал потрясен: ведь духовные беседы они превращали в свидания!!!
…Месяц назад она подошла к нему и сразу же, быстро сказала, что собирается развестись с мужем. Она сказала это твердо, сильно волнуясь, близко глядя ему в глаза. Отец Михаил без участия разума тихо сказал:
— Я люблю тебя. Она сказала:
— Я тоже.
Счастливый, отец Михаил оказался в мучительном тупике.
Шоркнула дверь. Отец Михаил очнулся и поднял голову. Вошла баба Катя, уборщица.
— Мишенька, батюшка, хочешь пирожок? Не бойся, с капустой…
Отец Михаил отодвинулся от стола. Он почти обрадовался — и потому, что сначала испугался Василия, за своими размышлениями не сообразив, что Василий давно уже дома, и потому, что любил старуху. Она чем-то — впрочем, может быть, только старостью — была похожа на покойную бабушку.
— Спасибо, баба Катя. Сколько я тебе должен?
— Что ты, что ты, деточка! Это я сама испекла. Буду я всякую срань на улице покупать… Кипяток-то есть?
Отец Михаил заозирался в поисках чайника. Он становился рассеян, в последнее время ставил чайник то на окно, то на шкаф, то на стол, то в стол… Баба Катя мелко засеменила к окну — чайник оказался за занавеской.
— Воды-то нет… Сейчас я тебе принесу.
— Да что ты, баба Катя, я сам…
— Сиди, сиди, отдыхай! Шутка ли — два часа на ногах, да еще служить в полный голос. До тебя-то отец Николай, царствие ему небесное, думаешь как служил? Бормотал что-то себе под нос, на крылосе не было слышно…
Баба Катя положила на стол пакет с двумя пухлыми румяными — пирогами, а не “пирожками” — и вышла с чайником в коридор. Ей было уже за семьдесят, и убираться ей было трудно, тем более что из-за катаракты у нее быстро слабели глаза. Василий подбивал отца Филофея взять на ее место свою знакомую, молодую приезжую женщину, — но отец Филофей по старости сам сочувствовал старости, да и отец Михаил вступался за бабу Катю, которая жила одна, схоронив и мужа, и сына… Баба Катя вернулась.
— Ну, а уж включишь ты сам, я их боюсь, этих чайников. У моего Пети покойного как-то взорвался…
— Спасибо тебе, баба Катя.
Отец Михаил включил чайник, открыл дверцу стола, вытащил чашки, ложки, жестяную коробку с чаем и пачку сахара.
— Я тебе налью, баба Катя?
— Нет-нет, мне не надо, мне, Мишенька, вредно много воды… Крестовоздвиженский-то поп — слыхал? — снова запил. Анисья говорит, на Обрезание белугой ревел, слова было не разобрать, а потом пропал на неделю: Крещение один Виталий служил. Другого бы выгнали давно, так у него отец вона где… Был бы у тебя такой, Мишенька! Ты у нас молодец, уже бы приход получил.
Отец Михаил покивал и слегка улыбнулся. Почему-то ему стало легче от того, что крестовоздвиженекий Федор запил.
— Ну, я пошла. Благослови, батюшка. Отец Михаил положил крест.
— Спаси тебя Бог, баба Катя.
— И тебя, Мишенька.
Он дождался, когда чайник заклокотал, и прямо в чашке заварил себе чаю. Слышно было, как в коридоре поплескивала тряпка и гремело дужкой ведро. Отец Михаил снова подсел к столу и оперся на руки подбородком. Что делать? Камо грядеши?…
…После того признания совершенно безмысленное счастье, охватившее отца Михаила, продолжалось недолго — до возвращения в тот же вечер домой. Положение казалось — да не казалось, а было — безвыходным. Разводиться было нельзя, потому что развод запретил Господь, потому что разъединиться с одним телом и слиться с другим — это гнусно, это скотство, это прелюбодеяние. Разводиться было нельзя, потому что это значило бросить жену, сделать зло жене, а Господь запретил делать людям зло, и отцу Михаилу было жалко жену. Подобное разделение Закона и нравственного чувства может показаться формальным, но отец Михаил привык сверять ощущения совести — хотя обычно они появлялись первыми — с требованиями Закона, и почти всегда голос его совести совпадал с буквой Закона. Дурные поступки в глазах человека есть те, которые он сам, по научению Богом или людьми, признает дурными. Закон не выше и не ниже совести: совесть есть голос разума, укоряющий человека за дурные поступки, — отражение признаваемого им нравственного закона в душе; если же человек Закона не признает и подчиняется ему только из страха, совесть его молчит.
Отец Михаил признавал Закон, и его мучила совесть. Кроме того, он бесконечно любил Христа; он не мог оскорбить, оттолкнуть Его, презревши Его Закон, — он, один из немногих стремившихся быть верным Ему (не с осуждением и не гордясь, а с великой горечью думал он) среди миллионов не признававших Его людей. И совсем уже наконец — он знал, что священнослужитель, уже по церковному праву, вообще не мог развестись и жениться в другой раз; разведясь, отец Михаил должен был снять с себя сан, то есть отказаться от единого смысла всей своей жизни — служения Богу, выйти из клира в мир — им это ощущалось, как выйти из Церкви, — а Церковь, что бы он рассудочно ни думал и ни говорил, растила его с малых лет, с того дня, как он в первый раз пришел в нее с бабушкой, — Церковь воспитала из него иерея, Церковь была ему мать, и ни отвергнуть, ни поменять Ее было ему нельзя…
Казалось, всё это страшно — и это действительно было для отца Михаила словами непередаваемо страшно: когда он думал об этом, его охватывала телесная слабость, хотелось сесть, — и казалось, что думать и колебаться тут нечего, выбора нет… — но после того, как в вечер признания они с Наташей встретились возле церкви, и пошли вдвоем по чуть освещенному заревом неба двору, и во дворе было скользко, потому что Дмитрий уволился, а нового дворника еще не нашли, и Наташа скользила и он поддерживал ее под хрупкий ласковый локоть, и сели в сорок третий троллейбус, и в нем было шатко и тесно, и поручень был далеко, и он обнимал ее узкую спину с чуть осязаемыми холмиками лопаток, и перед тем как она вышла — она ехала к матери, — он ее поцеловал и она поцеловала его, и от нее изумительно пахло какими-то неведомыми цветами, и когда его губы прижались к ее виску и в уголок их, ласкаясь, проникла пушистая дужка брови — и краешек трепетного века под ней, — исчезла вся его жизнь… всё исчезло — детство, юность, священство!… — после всего этого он понял, что в его духе и теле нет сил отказаться от этого…
Но пойти против Бога он тоже не мог, — то есть он понимал, что уже шел против Бога, не слушал Его, но это было лишь в минуты забвения, потери себя, за которые он, очнувшись, презирал и казнил себя, — но сознательно, разумной волей ослушаться Бога было ему нельзя; и здесь был уже страх не только обидеть Бога, любимого Бога, но и страх потерять свою жизнь, потерять дорогу, утратить смысл своей жизни — смысл ежедневного завтрака, одевания, поездки в храм, служения Богу, разговоров с отцом Филофеем, Василием, бабой Катей, утешения Георгия, чтения книг, поездок к матери, рождения детей… — был страх утраты всего: отвергнув одно, он разрушал, подвергал сомнению целое, переступив одну заповедь, он мог искуситься и небереженьем другой, — терялся Свет, руководивший его в смятении жизни, единый могучий источник, Логос, исчезал, дробился на множество — где истинных? где ложных? — огней… Как тогда жить? Метаться, обжигаясь, среди этих огней — или превратиться в животное и жить единственно на плотскую радость себе?…
Всё продолжалось по-старому. Они встречались раз, два, много три раза в неделю — она приходила, он служил, провожал ее до остановки, она уезжала… за эти короткие пять, десять минут они говорили о Боге, о службе, о ее работе в аптеке, о его поступлении в академию, о кактусах, которые она разводила, о старинных открытках с изображениями церквей, которые он собирал… Однажды она мельком сказала, что муж ее стал много пить, дела его пошатнулись, кричал на нее… пьяный, наверное, приставал, — страдая, думал отец Михаил: этот муж, имени которого он даже не знал, потому что она никогда не называла его по имени, представлялся ему огромным, тупым, бессердечным чудовищем, которое мучило, терзало ее, — но он не осмеливался спросить, подала ли она на развод, он даже не знал, сказала ли она мужу, что собирается с ним разводиться, — а она об этом почему-то больше не говорила… впрочем, он подозревал, почему, и казнился этим: после того, что они сказали друг другу, разговор о ее разводе, наверное — или конечно?… — предполагал и какое-то решение с его стороны, — а он молчал! — у него решения не было, была одна бесплодная мука… День шел за днем. Уже наступил новый год и близились Святки; уже как-то Василий, посмеиваясь, сказал: “Что-то эта брюнеточка часто ходит. Это к Богу… или к тебе?”; уже отец Филофей однажды недовольно указал ему на нарушение чина; уже редкая даже литургия воодушевляла его, — нет, он был искренен в своем отношении к Богу, просто очень устал…