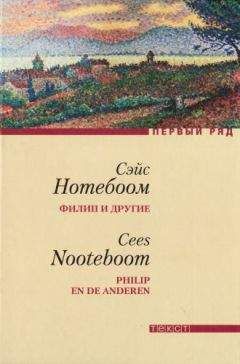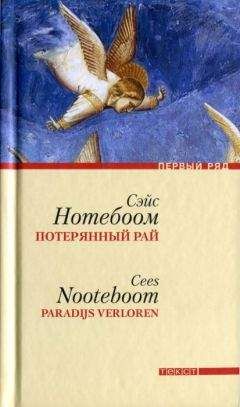Это был, я полагаю, приятный вечер. Там были австралийцы, а еще — Эллен, подруга Вивьен, и парень из Утрехта. В глубине бара кто-то пел под гармошку, а за цинковой стойкой patron со звоном мыл стаканы. Было дымно, а снаружи все предвещало грозу.
— О чем ты думаешь? — спросила Вивьен. И я почувствовал, что она гладит мою руку.
Я поглядел на нее. Она совсем старуха, подумал я, и лицо у нее неинтересное. Австралийцы с Эллен ушли, а Вивьен осталась. Парень из Утрехта тоже остался, у него был ключ от входной двери кемпинга. А у нас с Вивьен не было.
— Почему ты молчишь? — прошептала она. Она нагнулась ко мне, чуть повернув голову в сторону парня из Утрехта: — Three is а crowd.[26]
В метро, по дороге к Порт д'Орлеан, она продолжала гладить мою руку, ей это явно нравилось. Мне бы хотелось, чтобы она перестала это делать, если честно, мне это было неприятно. Вернее, не совсем так; дело вот в чем, я все время думал, что она хочет, чтобы я ее поцеловал и обнял, — а я думал, что ни за что не смогу сделать это хорошо или — сделаю недостаточно хорошо, потому что она совсем старуха; я знал, что она спала со многими мужчинами, но не собирался ей это говорить.
Soit.[27] Ключ остался снаружи, парень из Утрехта — внутри, я поцеловал ее и ощутил ее тепло, но тут же заметил, что это не я ее поцеловал, а она меня и что она обняла меня и погладила.
Она сказала, и я мог не только слышать ее, но и чувствовать, так близко ко мне она была:
— Ты такой странный, глаза у тебя…
Больше она ничего не сказала, вздохнула и отпустила меня.
Мы медленно пошли назад, в сторону бульвара Брюна, мы пили кофе в баре, а молодые работяги играли в настольный футбол, и я запомнил все, что они говорили. Двое из них были одеты в комбинезоны, трое других носили кричаще яркую дешевку. Звонкое щелканье их игры и хриплые, невнятные выкрики заглушали музыку пластинок Паташу.[28]
Двое парней подошли к нам поближе.
— Vous êtes Américains?[29] — спросил один, он был немного навеселе.
— Нет, она — ирландка, а я — голландец, — ответил я.
— Нет, — сказал парень, — вы американцы, — и крикнул остальным: — Они американцы! — а потом добавил, обращаясь к нам: — Хотите выпить с нами?
Это сходилось с тем, что мы прочли в путеводителе парня из Утрехта насчет характера парижан. Мы приняли их предложение, но тут я почувствовал, как она под столом сжала коленками мою ногу, и понял, что она хочет уйти, да я и сам хотел уйти, потому что опасался: они увидят, чем она там занимается, и будут говорить об этом между собой или смеяться над нами.
— Французский пролетариат, — сказал один из работяг, — предлагает американскому капитализму выпивку.
Остальные засмеялись — теперь они окружили наш столик и смотрели, как мы пьем кофе.
— Мы не американцы, — повторил я. — Она приехала из Ирландии, Дублин, а я — из Голландии. La Hollande, Pays-Bas,[30] Амстердам.
— Нет, — сказал старший из них или предводитель, тот, что был немного навеселе. — Amerikanen, New York. How do you do. Américains, capitàlistes.[31]
Мы допили свой кофе, поблагодарили их и пожали им руки. Они проводили нас до двери, и я увидел, что они все еще смотрят нам вслед, когда, метрах в ста от бара, она меня поцеловала.
Я притянул ее к себе. И вдруг увидел, что они идут за нами.
— Они идут за нами, — сказал я.
Она оглянулась. Они приближались, а когда мы ускорили шаг, побежали.
— Бежим, — сказал я ей, — мы успеем добежать до кемпинга, тут недалеко.
Но она не хотела бежать, и они нас догнали. Мы остановились, никто не сказал ни слова, и поэтому все выглядело странно, даже немного страшно, когда они нас окружили.
Наконец предводитель, который угощал нас кофе, заговорил.
Он крепко схватил меня и начал:
— Тут важный вопрос. Все не так серьезно, но… — Теперь он был уже по-настоящему пьян. — Приключилась неприятность, — прошептал он. Остальные молча стояли вокруг нас.
— Чего они хотят? — спросила Вивьен. Она не понимала по-французски.
— Я не знаю. — И я спросил предводителя, все еще державшего меня: — Чего вы хотите? Отпустите меня.
Он схватил меня за плечи и встряхнул.
— Заткни пасть, грязный, тупоголовый америкашка, — заорал он. — Дело в том, что ты с девушкой.
Он отпустил меня. Я был напуган.
— Пошли отсюда, — сказал я Вивьен.
Но она снова спросила:
— Чего они хотят?
И я заорал:
— Я тебе уже сказал, что не знаю.
Предводитель снова ухватился за меня.
— Тут небольшая трудность, — сказал он. — Кое-что не сошлось в кассе. Касса, в кафе. Совсем ненамного.
Я почувствовал ужасную усталость. На улице не было ни души.
— Это действительно досадно, — бормотал он. — Серьезная неприятность. Совершенная мелочь. Пошли с нами в кафе, а?
— Ладно, — согласился я, — и спросим самого patron, что там случилось.
И мы, все вместе, медленно направились в сторону кафе, тупо и молча, как стадо, — пока они внезапно не остановились. Я хотел идти дальше, но он принялся орать:
— Теперь ты должен остановиться, ты, проклятый, вонючий… — И вдруг замолчал.
— Я думал, мы должны вернуться в кафе, — сказал я, но он схватил меня за одежду и закрыл мне рот своей здоровенной лапой, потом зажал нос другой рукой, так что я совсем не мог дышать.
— Если бы с тобой не было девушки!.. — взвизгнул он, а потом выругался, отпустил меня и заговорил плаксивым голосом: — Такая неприятность, просто не могу сказать.
Я начал медленно отступать, пока не увидел, что один из них держит в руке нож. Это уже серьезно, подумал я, нож был ржавый, и я спросил:
— Сколько?
— Шестьсот, — ответили они.
— Шестьсот, — перевел я Вивьен, потому что у меня с собой денег не было.
— Почему? — спросила она, но я не ответил.
— Спроси тогда у них, в чем дело.
— Сама видишь, они пьяны.
Она вытащила бумажник.
— An Irishman would have fought the lot of them,[32] — сказала она, — Раз, два, три, четыре.
Она отсчитывала стофранковые банкноты в протянутую потную ладонь.
— Тут только четыре, — сказал он, — я видел, у тебя там еще бумажка в тыщу франков.
— Спроси, найдется ли у него сдача.
В ответ на мой вопрос он помахал в воздухе только что полученными от Вивьен банкнота-ми. Она отдала ему тысячефранковый билет и получила сдачу — четыре сотни.
— Такая неприятность, — сказал он, пожимая нам руки. Теперь он плакал по-настоящему. — Мне очень досадно… дурацкий спор. — И они ушли прочь.
Мы не сказали друг другу ни слова. Я знал, что она считает меня трусом, и через некоторое время спросил:
— Ты, конечно, думаешь, что я трус?
— Нет, мне только жаль, что так вышло, — сказала она. — Ты ведь не умеешь драться, правда? И потом, что может сделать один человек против пятерых?
«Да, — подумал я, — она права», — и даже нашел себе оправдание:
— Бог знает, что они бы сделали с тобой, они были пьяны. — Но думал я только о том, что ирландец дрался бы с ними, и знал: она тоже думает об этом. Вдруг она остановилась:
— Давай забудем об этом. Совсем забудем, как будто этого никогда не было.
И мы пошли дальше.
Улицы были тихими, но вдалеке слышался шум города. Она непрестанно касалась моей руки, я понимал, чего она от меня ждет, и наконец схватил ее, прижал к стене, и стал ласкать — но при этом не терял головы, и отмечал про себя, не знаю, как сказать иначе, все детали ее лица — крошечные мягкие волоски на щеках, розовый, чувственный рот. Вдруг она зашевелилась под моими руками, задрожала, как парусник, поймавший попутный ветер, — и я услышал, что она говорит, но не мог понять — о чем.
— Что с тобой? — спросил я. — О чем ты? — И медленно разжал руки.
Но она отвернулась от меня. И стояла так некоторое время, с полуоткрытым ртом.
Наконец она спросила:
— Тебе сколько лет?
— Восемнадцать.
— Кто научил тебя этому?
Я и не знал, что сделал что-то особенное, — я делал то, что должен был, по моим понятиям, делать, и считал, что именно так поступали в подобных случаях остальные.
— Я никогда еще не спал с женщиной, — сказал я.
Она взяла меня за плечи и притянула поближе к себе:
— Ну, так не делай этого никогда.
— Ты-то наверняка спала со многими.
Она кивнула в знак согласия задумчиво, словно подсчитывая:
— Но я больше этого не делаю. — И вдруг заплакала.
Я пришел в бешенство. Не рыцарская реакция, но что ж тут поделаешь.
— Не плачь, — сказал я, — не надо. — И подумал: почему это все норовят поплакать у меня на плече? И впервые вспомнил дядюшку Александра в тот первый вечер в Лоодсдрехте, когда он сказал, что никогда не плачет.
— Я не плачу, — сказала она, — но откуда ты знаешь, что у меня горе?