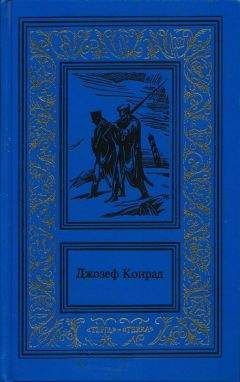Валентине Ивановне совсем немного надо, чтобы вызвать у нее приступ смеха. Смеясь, она откидывалась на спинку дивана и заливалась своим «а-ах-ха» минуты на три, которых актерам было достаточно, чтобы исчезнуть за кулисами и появиться оттуда уже в ином виде. Теперь уже на голове у Алеши не цветастый платок, а соломенная шляпа с черной лентой, на верхней губе торчат две щеточки фатовских усиков, а брюки волнами ниспадают на штиблеты, и он вращает задом совсем как Чаплин, спасаясь от погони пузатого полицейского в мундире, в котором Греков узнавал свой старый френч. На мундире болтается черная кобура, и полицейский, гоняясь за Чаплиным по всем комнатам, свирепо хватается за нее рукой. С громом падают у них на пути стулья, дребезжат тарелки, ножи и вилки в буфете и на столе под полотенцем, которым прикрыт ужин. Пыль столбом стоит. Улепетывающий от своего преследователя Чаплин вращает задом ничуть не хуже знаменитого оригинала, но это ему не помогает. Вот его совсем настигает полицейский. В этот момент Чарли оборачивается и укалывает его своей тросточкой. Пузатый полицейский испускает дух, делаясь на глазах совсем тощим – это Таня незаметно выпускала воздух из футбольной камеры, спрятанной под отцовским френчем.
И снова благодарный зрительный зал минуты на три разражается своим «а-ах-ха». Этому зрительному залу вообще достаточно показать палец, чтобы он оказался во власти неудержимого смеха. Не мудрено, что ни зрительный зал, ни актеры в это время совсем не замечают того, кто давно уже стоит в дверях, прислонившись к притолоке, и тоже смеется. Еще долго он будет так стоять, не заявляя о своем присутствии, пока его наконец не заметят.
– Вот и отец! – вставая с дивана и вытирая глаза, говорит Валентина Ивановна. – Ужинать.
Но и за ужином то и дело из конца в конец стола перепархивает смех. Теперь со стороны, да еще в присутствии такого слушателя, как отец, детям все их забавы кажутся еще более смешными, и они наперебой смакуют их. Валентина Ивановна прикрикивает на них за то, что они, совсем не пережевывая, глотают кусками мясо, но потом тоже начинает вставлять в их воспоминания свои подробности, от которых хохот за столом переходит в стон. Крича и размахивая руками, Таня и Алеша входят в раж, с ними уже невозможно сладить. Кто-нибудь из них обязательно опрокинет на скатерть стакан с молоком или уронит на пол тарелку. Спохватываясь, Валентина Ивановна зовет на помощь Грекова. С трудом удается навести порядок и разогнать их по постелям. Но и после этого они еще долго перекрикиваются из комнаты в комнату. Звонко звучат их голоса в доме, то и дело опять взрываясь фейерверками смеха. И хотя они мешают уставшему за день Грекову уснуть, он сердиться на них не может. Может ли он сердиться, если впервые за многие годы никакая подспудная боль не ворочается в сердце и сознание вины не подтачивает его совесть.
Все его тревоги рассеялись, он оказался совсем незрячим. И тени настороженности, с которой Алеша приехал из дома, нельзя теперь заметить в его отношении к Валентине Ивановне. Лед растаял. Даже нечто напоминающее чувство зависти испытывал Греков, узнавая иногда от Валентины Ивановны об Алеше то, что отцу положено было бы первому узнавать о сыне. На такую зависть Греков был согласен.
И так продолжалось до того дня, пока в их дом не пришла открытка на имя Алеши.
Приехав домой к обеду и увидев на Алешином столике открытку, Греков прочитал ее, не считая для себя зазорным знать, о чем пишут его сыну. Он сразу узнал почерк. Первым же чувством его, когда он пробежал глазами написанные этим почерком строчки, был страх, что Алеша уже успел прочитать их. Самый чужой и злонамеренный человек не смог бы причинить Алеше большего вреда, чем родная мать этой открыткой. Отвечая на Алешино письмо, она писала ему своим мужским почерком, что, конечно, рада за сынашу, который так весело проводит время у отца, ходит на рыбалку и катается на лодке. Только она надеется, что ее черноглазый будет осторожней. Папа, конечно, его любит, но есть еще на свете двуличные люди, хотя иногда они могут показаться и хорошими. Они были бы рады, если бы ее мальчик простудился или даже утонул. Но мама знает, что ее сыночек умница и вернется домой невредимым.
Вот, оказывается, почему она на этот раз позволила Алеше провести у отца лето. Она, конечно, не сомневалась, что открытку прочтет хозяйка дома. Понимала она или нет, что если кто и может больше всего от этого пострадать, так это Алеша? Но успел ли он прочитать открытку?
За обедом у Грекова уже не осталось сомнений. Ему понадобилось всего лишь раз перехватить взгляд Алеши, брошенный на Валентину Ивановну. Спугнутый взглядом отца, он тут же опустил глаза к тарелке, и это движение только укрепило Грекова в его догадке. Точно такой взгляд был у Алеши, когда он только приехал от матери. Но потом, когда лед растаял и отношения между ним и Валентиной Ивановной все более становились похожими на дружбу, все чаще стал замечать Греков во взглядах, которыми они обменивались, и смешинки. Они охотно подшучивали друг над другом. Алеше явно нравилось вызывать у нее смех.
И вот опять этот взгляд. Но к отчужденности прибавилось в нем и что-то другое. Как будто он с сожалением старался рассмотреть в лице у Валентины Ивановны то, что до сих пор так искусно от него скрывали.
Не показалось ли Грекову, что и Валентина Ивановна чувствовала на себе этот взгляд? Иначе почему бы она теперь избегала встречаться с Алешей глазами.
В том, что она не читала открытки, Греков был уверен. Как и всегда, получив открытку, она, конечно, отдала ее Алеше или же положила на его столик. Но почему же тогда Грекову кажется, что ее лицо и глаза спрятались за какой-то сеткой?
Не слышно было на этот раз тоже за обеденным столом и привычных уток. Если бы не голосок Тани, обед прошел бы в молчании. Одна Таня ничего не замечала.
После обеда Валентина Ивановна, убрав посуду, ушла к себе в комнату. Греков подождал в столовой, надеясь, что она выйдет и между ними начнется тот разговор, без которого у них не обходился ни один день. Но она не вышла. Тогда он встал из-за стола и сам вошел к ней в комнату.
– Ты, Валя, прочла открытку?
Стоя у окна и глядя на улицу, она ответила:
– В этом не было необходимости. Достаточно, что нашу почту сперва читают соседи.
Грекову следовало бы и самому догадаться. В их отсутствие письмоносец Митрич обычно отдавал всю почту Гамзиной, и она никогда не упускала случая поинтересоваться содержанием писем. Может быть, самое замечательное заключалось в том, что, узнав таким способом о вещах, которые касались чужой жизни, она обычно сопровождала все это своими комментариями и советами. Только от нее Валентина Ивановна и могла узнать о содержании открытки, но, конечно, она не придала этому никакого значения. Над этим только можно было посмеяться, как над одним из примеров человеческой глупости, а Валентина Ивановна никогда не упускала случая посмеяться. Он дотронулся до ее плеча:
– Валя!
Его удивило не столько то, что она ему ответила, сколько то, как ответила:
– Лучше, Василий, больше не говорить об этом. Еще никогда он не слышал у нее такого тона.
И если когда-нибудь раньше она называла его Василием, то лишь в шутку. Это был и ее голос, и не ее. Как будто он сразу выцвел,.
Но и настаивать на чем-нибудь не в обычае было между ними. Греков еще постоял у нее за спиной, глядя на бронзовые стружки рассыпавшихся у нее по шее тонких волос. Она не обернулась, и, выходя из ее комнаты, он притворил за собой дверь.
На этот раз день закончился в их доме не так, как заканчивался он последнее время. И хотя вся семья рано оказалась в сборе, ни беготни по комнатам не было слышно, ни «а-ах-ха», услышав которое, прохожие на улице поворачивали головы к окнам Грековых. Алеша с Таней затеяли было свой ежевечерний маскарад, и Греков даже уселся на уголке дивана, выполняя роль зрителя, но Валентина Ивановна из своей комнаты не вышла, а детям, как видно, больше всего недоставало ее смеха. Таня, гоняясь за Алешей, вдруг на полдороге свернула в сторону и, уткнувшись отцу в колени, разревелась. Плечики и косички ее с белыми бантами вздрагивали, и она долго не могла успокоиться, не отвечая на его вопросы: «Что с тобой? Ну, что с тобой, Таня?» Так и уснула у него на коленях, и он отнес ее в кровать. Хотел было Греков заговорить с Алешей, но и тот уклонился. Ему на этот раз намного раньше обычного захотелось спать, он лег на свой диван в столовой, тут же закрыв глаза. Все разошлись по местам.
Дом был построен подковой, и из окна своей комнаты Греков видел в освещенном окне комнаты Валентины Ивановны ее тень, отпечатавшуюся на белом тюле. Он хотел было войти к ней в комнату, но воспоминание о ее последних словах: «Лучше, Василий, не говорить об этом» – его удержало. Еще никогда ничто неясное и беспокоившее их обоих они не хранили каждый в себе, не стараясь выяснить этого вместе, и в их разговорах не существовало тех запретных рифов, которые надо было бы обходить стороной. Тем более не мог понять Греков, почему лучше не говорить об этом. Как будто разговор об этом таил для них какую-нибудь опасность. Это тем более исключено, что ничего нового не появилось между ними, а то, что появилось, подброшено со стороны, и для них не составляло труда опять выбросить это обратно. Но сделать это можно только вместе, выяснив все до конца, а Валентина Ивановна не хочет говорить об этом.