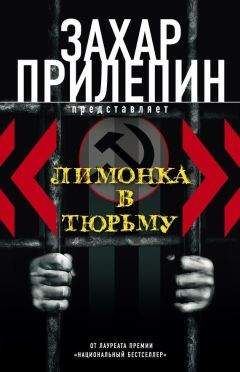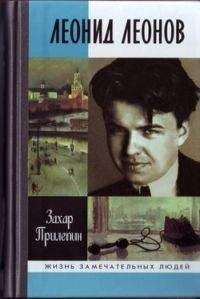«Каждому – своё», – подумал я и лёг спать.
После Нового года я неслыханно разбогател. Я умудрился затянуть в хату телевизор. Мой земляк уходил на волю из хаты, в которой не нашёл взаимопонимания с обществом. Он предпочёл отдать свой телик мне, человеку, которого никогда не видел и с которым он только переписывался по тюремным «дорогам».
Подарок был поистине царским, если не принимать во внимание тот факт, что телевизор работал как радио наоборот. То есть он только показывал изображение, но звука у него не было. В этом раскладе имелись свои плюсы. Например, я со своим изголодавшимся либидо смог наконец смотреть обожаемое тюремными жителями «МузТВ», не травмируя своих эстетических чувств. Выпуски новостей удавалось посмотреть с бегущей строкой, а если таковая отсутствовала, то я читал текст по губам диктора. Кстати, это очень утончённое и эротичное занятие, как-нибудь попробуйте сами. Да здравствует сурдоперевод всех программ телевещания на всех каналах! Сплошной либерализм и политкорректность…
Телевизор без звука воспринимался несколько сюрреалистично, но зато замечательно развивал фантазию, порождая среди населения нашей хаты толерантное отношение к глухонемым. Хит Бутырского централа – клип группы «Мумий Тролль» на песню «Медведица» – без звука воспринимался намного интереснее, чем со звуком. Политические деятели без звукового фона выглядели гораздо естественнее в своём жлобстве и уродстве. Престарелые примадонны сцены и кино вызывали искреннее беспокойство за их здоровье.
Художественные фильмы в нашем глухонемом телевизоре можно было оценивать не по работе режиссёра или сценариста, а исключительно по игре артистов: сразу замечалась халтура и недоработки в актёрском мастерстве. Давний тезис о том, что немое кино несравненно выше современного, со всеми его стереоэффектами, был подтверждён на практике. Видимо, отсутствие у человека одного из органов чувств обостряет мозговую деятельность. Даже находившиеся на невысокой ступени развития зэки не отрывались от кинофильмов без звука.
В процессе очередного немого просмотра мне открылся богатый внутренний мир одного из моих сокамерников. Показывали до ужаса урезанный цензурой «Бойцовский клуб». Вот тут-то и выяснилось, что Серёга по кличке Баклан знает произведение Чака Паланика практически наизусть. Он начал «озвучивать» и настолько разошёлся в своём переводе любимого фильма, что впал в какой-то транс и даже стал неосознанно модулировать голосом эмоции актёров. Затем Серёга освоился, вошёл во вкус и выдал нам «перевод по ролям». Действие фильма перенеслось куда-то в Ростов и Краснодар, где Серёга жил до посадки и где его ждали пацаны с южнорусским акцентом. Такого произношения, таких междометий для связки слов однозначно не могло быть в мегаполисах США, где Баклан никогда не был и где он вряд ли стремился побывать.
«Бакланский клуб» оказался ничем не хуже «Бойцовского клуба», и даже драматизма в нём было, наверное, поболее. Вопреки прилепившейся кличке, Серёга был идейным хулиганом, а не обычным гопником из подворотни. Свой арест и предстоящий срок он явно воспринимал как часть операции «Разгром».
Серёга был побрит, как «обезьяна-космонавт». Впрочем, так были побриты и все мы.
Через пару дней мы смотрели фильм «С широко раскрытыми глазами», с титрами и без бакланского перевода. После бурной дискуссии мы пришли к выводу, что фильм – говно, так как ни в Ростове, ни в Краснодаре такого случиться не могло.
Сёма Авербух заехал в хату с бело-голубым полотенцем на плечах, длинными пейсами и маленькой чёрной шапочкой на проплешенной голове. По его словам, взяли его прямо возле синагоги, проведя «чумовую спецоперацию со стрельбой и собаками». Выговорить его настоящую фамилию почти никто в хате не мог, и поэтому как только его не называли: и Кельвин-кляйн, и Шлюпенбах, и Эйнштейн. Мало-помалу за ним закрепилась фамилия Авербух.
Некоторые исследователи утверждают, что 100% населения планеты Земля страдает психическими расстройствами. Авербух явно выделялся на этом фоне немощных землян экзотичностью и размахом своего заболевания: он страдал музыкальной шизофренией в законченной стадии. Каждое его утро начиналось с небольшой распевки: «Ах, зухен вей, к чему всё это горе, / Ах, зухен вей, всемирная тоска, / Но мне не жить в томительной разлуке, / Револьвером махаю у виска». Потом он плавно переходил к классике и исполнял арию Мистера Х из одноимённой оперетты «Принцесса цирка» (так он объявлял нам – невольным слушателям) или что-нибудь из «Летучей мыши». Дальше следовали: «Кармен», «Аида», «Фигаро» и «Евгений Онегин» («Я люблю вас, Ольга-а-а…»). Затем шёл дворовый шансон 70-х годов и закос под блатняк: «Ведут меня лягавые мимо кабака, / Стоит моя халявая, ручки под бока: / Сиди ты, мой голубчик, сиди и не горюй, / А вместо передачки сосать ты будешь х…»
Следом, без какой-либо паузы, Сёма делал неожиданный и резкий переход к белогвардейской тематике. Всевозможные корнеты Оболенские и поручики Ржевские в его исполнении пели с несмываемым акцентом восточноевропейского еврейства и при этом умудрялись акать, как косящие под коренных москвичей жители Луганска.
Но его коронные номера начинались под вечер. Стирая в тазике у тормозов свои манатки, он выдавал все перлы из многосерийного фильма про мушкетёров короля и д’Артаньяна. Бургундия, Нормандия, Прованс и Шампань в очередной раз не шли ни в какое сравнение с Гасконью, Париж вновь узнавал Де Тревиля, а Арамис пел песню на слова Франсуа Вийона. Не пропустив ни одного музыкального номера, он перемежал их высказываниями героев этого незамысловатого сериала: «Pourquoi pas, pourquoi pas – почему бы нет…»; «Я дерусь, потому что я дерусь!»; «Есть в графском парке чёрный пруд, там лилии цветут…»; «Мадлен, чёрт побери!»; «Кардинал был влюблён в госпожу Д’Эгильон…»; «Вторая часть марлезонского балета!» и т. д…
«Опять скрепит потёртое седло, и ветер холодит былую рану», – без тени смущения пел он стрёмную по тюремным меркам песню, забираясь на свой шконарь. И перед сном, завывая: «Констанция, Констанция…» – он даже сам умилялся собственному творчеству. Скоро его увезли «на Серпы», признали невменяемым и отправили в подмосковный санаторий усиленного режима содержания.
Он был безобидный чудак. Таких мало.
После допросов чувствуешь себя отвратительно. Нет, бьют и пытают только первые три-четыре дня, и, если не сломался, дальше идёт сплошной интеллигентный пресс. Но даже спокойный допрос очень неприятен. Выворачивать свою душу наизнанку перед незнакомым и малосимпатичным человеком, копаться в своей памяти, вспоминать малейшие детали, которые якобы смогут сыграть роль оправдательных материалов на суде, притом что тебе заранее известно, что суд пройдёт с обвинительным уклоном и в любом случае тебе намотают срок… Переливание из пустого в порожнее. Очень утомительно.
Меня вели с допроса в камеру. Я вспоминал прожитый день…
…В три часа ночи вертухай звенькнул ключами в дверь и выдал информацию скороговоркой: «Николаев, через час, слегка». Это значило, что через час мне надо быть готовым к выходу из камеры для перемещения по централу. Если же говорят «по сезону», то это означает путешествие за пределы тюрьмы, например – на суд.
Каждый мой выход из хаты обставлялся так же строго, как выход в открытый космос или декомпрессия в барокамере. В четыре меня вывели, обшмонали, сравнили с фотографией на личной карточке, задали контрольные вопросы (фамилия, статья, адрес, год рождения, группа крови), ещё раз обшмонали и вывели через спящий и тихий второй корпус на третий, а оттуда, забирая по дороге очередных конвоируемых каторжан, на первый корпус. Затем нас всех снова обыскали, пересчитали, провели перекличку, дали по башне тем, кто попытался закурить, и отвели на «Кошкин Дом», где, снова обыскав, закрыли в бетонном ящике «сборки» с маленьким окошком и полным отсутствием света. Мы, человек двадцать, стояли в темноте и ждали.
Ждали: очной ставки, встречи с адвокатом, допроса, ознакомления с делом и прочих процессуальных прибамбасов (ППП). Скоро бокс приблизительно до пояса наполнился сигаретным дымом так, что в нём можно было плавать. К десяти часам вывели на ознакомление с делом семь человек из татарской преступной группировки, и в «сборке» сразу похолодало. К двенадцати часам забрали ещё трёх человек на очную ставку. К часу дня выкрикнули мою фамилию. Я вышел из бокса, назвал свои ФИО, статью, фамилию судьи. Меня опять обыскали и отвели на допрос. Допрос, как я уже отметил, – это очень утомительное переливание из пустого в порожнее…
После допроса меня обшмонали и вернули на «сборку», где, сидя на кортах, раскумаривалась татарская преступная группировка. Около семи вечера, после очередного обыска, переклички, сверки с личными карточками, меня повели домой. Я уже почти сутки не спал, с трёх часов ночи ничего не ел, я раскумарился с братьями-татарами и очень устал…