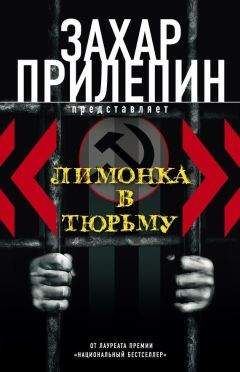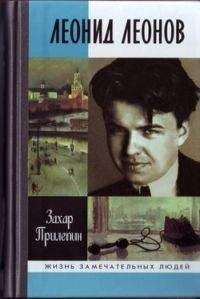После допроса меня обшмонали и вернули на «сборку», где, сидя на кортах, раскумаривалась татарская преступная группировка. Около семи вечера, после очередного обыска, переклички, сверки с личными карточками, меня повели домой. Я уже почти сутки не спал, с трёх часов ночи ничего не ел, я раскумарился с братьями-татарами и очень устал…
На четвёртом корпусе, где была моя хата, меня опять обшмонали и потребовали устную автобиографию. «Да что за день такой, сколько можно? – думал я, находясь уже в некотором мистическом ужасе от внимания к своей персоне. – Слава Всевышнему: вот и моя хата. О, как я счастлив видеть эти цифры! Да, 218. Да закройте меня поскорее, там рожи уголовные, такие родные!»
Но чей-то глаз смотрел на меня очень пристально, поэтому вместо хаты меня закрыли в корпусном «стакане» и пошли искать продольного вертухая, у которого были ключи от моей камеры. Минут через сорок его нашли, но он был пьян. Когда продольный вертухай пришёл за мной и начал открывать дверь «стакана», что-то дзвенькнуло, и в замочной скважине сломался ключ.
Услышав стальной дзвеньк, я изнеможённо сел на лавку, закурил последнюю сигарету и, пока никто не видит, пустил слезу. Я спросил у кого-то: «Ну почему я?» Я докурил и вдруг почувствовал себя очень хорошо, осознав, что впервые за последние несколько месяцев оказался абсолютно один. От этого-то и стало хорошо. Человек должен время от времени оставаться один. Одиночество и теснота – образ жизни. Никто не отвлекал, мысли текли спокойно и гладко, было тихо-тихо. Только где-то в далеке продола пьяный вертухай орал на слесарей из хозобслуги.
В камеру я вернулся около часу ночи.
О Сострадании и Милосердии
Болеть всегда неприятно. Болеть в тюрьме – совсем нехорошо. На Пресне нашу хату в целях профилактики и уплотнения перекинули в абсолютно нежилую камеру второго корпуса. Пришлось нам её обживать и делать пригодной для существования достойного человека, – чистота, порядок, эстетика… Сам по себе этот процесс трудоёмкий и нервный, а тут ещё – как специально! – у меня на венах рук и ног периодически начали вздуваться огромные, с голубиное яйцо, красные бугры, которые дико чесались.
Недели две я ежедневно и безрезультатно писал заявления на вызов к «лепиле». Наконец-то меня вывели в медчасть, но врача там не было, а был фельдшер из заключённых. Он посмотрел мои язвы и дал две таблетки: аспирин (1 шт.) и бисептол (1 шт.).
– Извини, – говорит, – другое лекарство мне выдавать запрещено.
Я говорю:
– Ничего, родимый, дай ещё пару штук таблеток и бинт. И зелёнки… В общем, давай всё, что не жалко, всё сгодится в лечении моих смертельно опасных болезней и для облегчения моих страданий.
– Мне тоже нужно на что-то жить: курить сигареты и пить чай, – затянул он знакомую песню.
Я назвал его коррупционером и оборотнем в телогрейке, начал давить на сознательность. В конечном счёте после всех препирательств я получил облатку аспирина, три таблетки бисептола, два бинта, пузырёк зелёнки, пакетик тетрациклиновой мази и проклятия в спину.
Лекарства я разделил на две части. Половину отправил ближайшим «почтовым дилижансом» на корпусной общак, а половину отдал нуждающимся в камере. Эта процедура мне, несомненно, помогла больше, чем если бы я выпил аспирин и бисептол. Интуитивно я понимал, что эти лекарства всё равно мне не помогут. Поэтому продолжил писать заявки в медчасть.
Ещё через неделю я попал наконец к врачу. Добродушного вида близорукая тётка в зелёном, как у ветеринара, халате взглянула на меня из-под очков, когда толстомордый вертухай завёл меня в её кабинет. Спросила у фельдшера:
– Этот, что ли, вымогатель?
Тот кивнул.
– Ну-с, молодой человек, какой раз сидим? – спросила она.
Я несколько прифигел, так как ждал вопроса: «На что жалуемся?»
Проигнорировав её вопрос, начал бормотать, типа: вот на руках, на ногах – бугры, вены лопаются. Она, фельдшер и охранник с интересом разглядывали мои конечности. Наконец «лепила» задала следующий вопрос, на этот раз почему-то конвоиру:
– Как он себя ведёт-то?
– Да по-разному ведёт, – ответил тот. – Вообще, конечно, непослушный пациент. На больничке нам такие не нужны…
Меня эта комедия начала поднапрягать, и я задвинул телегу про клятву Гиппократа, сострадание и милосердие…
– Ладно, – сказала врачиха, – короче, у тебя аллергия. Чем мучился на воле?
Я вежливо ответил, что не было у меня никогда аллергии. Медичка подумала и сказала:
– Хорошо. Но это раздражение вызвано аллергической реакцией. Ты сам как думаешь, на что у тебя аллергия? Может, на грязь, или на баланду, или на клопов, а?
Я посмотрел на её ветеринарский халат, на красную морду вертухая, на горку сигарет около фельдшерского стола и всё понял.
– У меня аллергия на тюрьму . Дайте мне от этого лекарства.
Врачиха улыбнулась:
– Вот аспирин и бисептол. И зелёнку возьми. А такую аллергию, как у тебя, лечит только время и ГУИН.
И я пошёл назад в камеру…
Знал его я ещё по Пресне. На тюрьму он заехал с воли, забакланив кого-то на дискотеке, и попал в хату, где сидел я. Несмотря на юный возраст – чуть больше двадцати, – у Адама уже вполне сложилось феодальное сознание и психика, которые, как я заметил, очень характерны для чеченского народа. Довольно скоро он получил год колонии и уехал по этапу. Адама я догнал уже в колонии…
Его распределили ко мне в напарники. Вызвал меня отрядник и спросил: не западло ли «фашне» с «чехом» работать? Говорю, нет, не западло.
– Всё ли будет мирно? – спрашивает отрядник.
– Будет так же, как и с остальными, – отвечаю я, – так как различий, в моём понимании, нет. Все люди из одного говна сделаны. Просто некоторые – пожиже, другие – покрепче.
…Мы сидели в каптёрке на коровьей ферме и грелись возле самодельной спирали. Коровы жалобно и нудно мычали, требуя хаванины. Дядя Саша, вольный мужичок из местных, который, типа, должен был нас охранять и ферму сторожить, был уже «на рогах» и спал на бетонной лежанке. Скотница Валька, которая была нашим официальным начальником, сидела за столом и заполняла «Журнал приплода поголовья». Она до ужаса боялась молоденького чечена, наслушавшись всякого бреда по телику. Где находится Чечня, она представляла довольно смутно и не верила тому, что это – официальный субъект РФ.
Наступила ночь, мусора ушли бухать, и Адам начал куражиться над Валькой. Поначалу мне было всё равно, и пошёл я в столярку, построгать маленько древки для мотыг и грабель (люблю возиться с деревом, люблю запах стружки). Вернулся через полчаса и застал в каптёрке Адама одного. Выяснилось: он выгнал скотницу на свой участок фермы и заставил убирать навоз, то есть выполнять работу за него. Мне это очень не понравилось, и я спросил:
– Адам, ты кто по национальности?
– Ты же знаешь, что чеченец. Зачем спрашиваешь?
– А ведь у горцев принято уважать старость. Валюха тебе в матери годится, у неё уже внуку десять лет.
– Так это людей уважают, а не быдло из деревни. Этих можно, – ответил он с некоторым даже удивлением (вроде бы объяснил мне прописную истину).
– А она, значит, не человек?
– Нет, она свинья…
И тут что-то во мне щёлкнуло. Я повернулся на негнущихся ногах и подошёл к стене, где жёсткой петлёй висел пятиметровый пастушеский хлыст…
Я гонял его по всей ферме, стегая кнутом, и не мог остановиться. Кнут резко щёлкал, а Адам взвизгивал и пытался на бегу схватить вилы. Он смешно подпрыгивал и ругался на своём родном гортанном языке.
Когда меня попустило, я пошёл в каптёрку и сел за чтение книги «Советская цивилизация» Сергея Кары-Мурзы. «Ближайшие пятнадцать суток почитать мне уже не придётся», – думал я, пребывая в абсолютной уверенности, что утром меня ожидает заезд в ШИЗО. Но Адам меня не заложил.
Он ушёл через неделю, освободившись условно-досрочно. Первым делом, после получения «портянки» – справки об освобождении, он написал «куму» на меня заявочку об избиении и нарушении режима содержания. Потом уехал, и больше я его не видел.
Я вышел за ворота, повернулся к конвоиру и сказал, улыбнувшись: «Гражданин начальник, иди в сраку!» Он заржал и ответил, что всегда будет рад моему возвращению. Кстати, говорит, сколько отсидел? Я посмотрел на весеннее небо с холодными облаками, шумно вдохнул снежный воздух: «Один год, шесть месяцев и семь дней». Повернулся и потопал в сторону станции.
Купил билет до Москвы на автобус, шедший через Владимир. Проезжая мимо Золотых Ворот, с удовлетворением отметил, что эстетическое чувство меня не покинуло: кургузое историческое сооружение вызывало исключительно положительные эмоции.
Во Владимире ко мне подсела тётка лет сорока, с тугим рыжим хвостом волос на голове. Опытным взглядом оценила меня и моё положение, спросила: «Что, только откинулся? А у меня мужик вот уже два года как помер». Затем предложила отсосать. После долгого и мучительного колебания я всё же отказался. Это её ещё больше воодушевило (типа – надо же! – он ещё и человеком оказался…), и она пригласила к себе на недельку пожить. Начала рассказывать: есть у неё банька, хозяйство своё, сама она женщина приветливая, «недельку погостишь, а там посмотрим»… Живу я, говорит, недалеко – в Петушках.