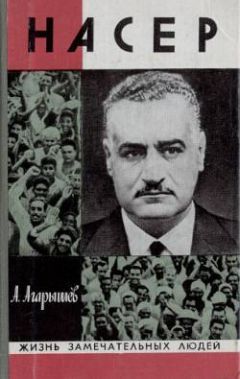Опустела служившая Махмуду Шукейри местом тайных встреч хижина неподалеку от могилы еврейского пророка Шмуэля. Главарь банды, взгромоздившись на одногорбого верблюда, двинулся в сторону Иерусалима, а Омар Харбони, оседлав своего гнедого Сариа, помчался в сторону Мухмаса, где за солончаком бедуины содержали пленников. Конь летел так, что в ушах свистело. Недаром Омар назвал его Сариа – Быстрый! Мимо проплывали голые горы, похожие на разлегшихся слонов, и круглые, похожие на кратеры, долины. Красоты природы не интересовали разъяренного Омара Харбони. Все рушилось.
Казалось, что проще – перебить сейчас всю партию иммигрантов, сообщить об этом во все европейские газеты, и на долгие годы перепуганные евреи забудут дорогу в турецкую провинцию Палестина. Главное, шум поднять. На это он мастер. Слава Аллаху, не зря помотался по миру, не зря освоил английский, как родной, не зря слал корреспонденции в разные английские газеты. Да они и сейчас с удовольствием напечатают его присланные под разными псевдонимами очерки о трагической гибели незадачливых еврейских репатриантов. И вернулся он в Палестину лишь по одной причине – он увидел, как Европу завоевывают евреи, как они захватывают банки, министерские кресла, места в британской палате лордов и во французском парламенте, как они вторгаются в науку, в культуру стран, давших им пристанище, как нарождается и овладевает умами европейцев новое, чисто еврейское по духу, движение за перекройку всего жизненного устройства, за изменение всего существующего строя во имя бредовых, неосуществимых идеалов, почерпнутых из видений их безумных пророков.
Увидел – и вспомнил. Они с отцом бредут по оливковым рощам. Небо не просто голубое, а какого-то зеленоватого оттенка, словно в тон кудлатым оливам.
– Омар, – говорит отец. – Много веков назад, еще до рождения пророка Мухаммада, до хиджры, один из наших предков был большим человеком при дворе какого-то персидского царя. Семейное предание рассказывает, что он участвовал в заговоре, целью которого было истребить всех евреев в Империи, а больше нигде тогда евреев и не было, следовательно, истребить вообще всех евреев на земле. В последний момент он испугался,предал своих соратников и тем самым спас ненавистный народ. Так вот он завещал своим детям из поколения в поколение передавать от отца к сыну – «чтобы искупить мою вину, боритесь с евреями, сражайтесь с евреями, губите евреев, уничтожайте евреев!»
У отца мокрое от пота старческое лицо с бордовыми прожилками на щеках и висках. Усы какие-то жидкие. Он не похож на воина Аллаха. Он лишь посыльный – от дальнего безымянного предка к нему, маленькому Омару, который с утра до вечера носится с приятелями по родному Наблусу и у которого вечно заложен нос, а на руках цыпки.
– Папа, – спрашивает он. – Скажи, что такого сделали евреи, что их нужно уничтожать?
У них в Наблусе евреи не жили, но он иногда встречал на улицах города евреев, приехавших по торговым делам. К тому же, играя с приятелями в Дубраве Учителя, часто видел, как они проезжают в повозках по каменистому тракту Иерусалим – Тверия. У некоторых из них на головах были тюрбаны, точь-в-точь как у арабов; другие, из северных стран, одевались странно. Особенно поразили Омара огромные плоские меховые шапки, которые он не раз видел у «северных» евреев. Эти евреи выглядели совсем чужими, но ни капли не страшными, даже какими-то жалкими... вроде как папа.
– Они – да постигнут их вечные муки! – хотят захватить весь мир, – говорит отец, и в голосе его появляется неслыханная доныне твердость. – Им так велит их вера. Они хотят захватить весь мир и переделать его. Они считают себя рукой Аллаха.
– Папочка, – шепчет Омар. – Но ты же сам говорил, что в мире ничего изменить невозможно, что все происходит по воле Аллаха, чего же нам бояться?
И тогда отец, оглянувшись по сторонам, словно в страхе, что его кто-то услышит, склоняется к сыну и, нависая, тоже переходит на шепот:
– Эти евреи – пусть руки их отсохнут, пусть ноги их омертвеют! – научились влиять на волю Аллаха!
Омар испытывает непонятный ужас, словно стоит ему оглядеться, как он увидит обступающие его со всех сторон толпы кровожадных евреев. Усилием воли подняв глаза, он окидывает взглядом лежащую перед ним долину. Оливковые посадки кажутся островками посреди маленького океана светло-бурой безжизненной земли. Лишь гребни хребтов лиловеют, полосуя небо, которое из зеленоватого вновь стало таким пронзительно голубым, каким бывает лишь в Палестине.
Сариа разрезал воздух крутым лбом. Дорога вилась над сухим руслом извилистого вади. Почва была морщинистой, как шкура носорога. Зелени почти не было, и лишь в медных лицах скал зияли щербины пещер. Солнце уже зависало над хребтами, и надо было торопиться, чтобы до темноты прискакать во временный лагерь, где Шукейри содержал заложников. Ружье плясало сзади, хлопая по бедру. Что ж, если Шукейри не хочет, он сам возьмет на себя эту работу. Проклятые черные шапки никогда не будут маячить на фоне сиреневых хребтов Палестины. Жирные еврейские лапы, выворачивающие карманы европейцам, никогда не дотянутся до тощих арабских кошельков. Сегодня он изменит историю. Может быть, даже ценой своей жизни. Но скорее всего, ему удастся улизнуть прежде, чем появится Шукейри с еврейскими посланцами, и вместо счастливых репатриантов, протягивающих руки щедро раскошелившимся освободителям, они найдут груду окровавленных трупов. Вперед, Сариа!
* * *
Когда-то в хедере меламед рассказывал Боруху о восстании Маккавеев:
«И тогда Иегуда и его братья прямо поперек ущелья построили стену. Невысокую – ведь главное было из-за этой стены стрелять, не давая грекам двигаться дальше. Одновременно с окрестных скал их соратники тоже осыпали греков стрелами».
«А греки?» – спрашивал, волнуясь, Борух.
«А что греки? – отвечал реб Мойше. – Не могли же они лезть на отвесные скалы! Пришлось снизу огрызаться, отстреливаться... Поняли они, что плохи дела, и решили вернуться обратно. Пошли – а там тоже стена. А из-за нее тоже стреляют. Наши успели ее построить, пока греки туда-сюда по ущелью бегали».
«А стены эти они снести не могли?» – распахнув глаза с длинными ресницами, спрашивал Борух, а сам мысленно умолял: «Скажи, что не могли».
«Каким образом?» – разводил руками меламед, больше похожий на кузнеца, с огромными лапищами, с мускулами, играющими под люстриновым лапсердаком. Вероятно, силушка его, не находя себе применения, рвалась наружу, поэтому и выбирал он для рассказов детям всякие истории про богатырей да про воинов, оснащая их такими живописными подробностями, будто сам там присутствовал.
«Ну как! – озабоченно возражал мальчик. – Вы же сами говорили – их были многие тысячи».
«Многие тысячи!» – подтверждал реб Мойше.
«А наших всего несколько сотен!»
«Несколько сотен», – соглашался тот.
«Ну вот!»
«Что «вот»? Ущелье-то было узким-преузким! В нем в ширину лишь один человек мог разместиться. Так по тропинке и шли гуськом. И тысячам этим даже развернуться было негде!»
«А разве такие ущелья бывают?» – спрашивал Борух, юный житель лежащего посреди широкой степи Егупца, в жизни не видавший вообще никаких ущелий.
«Бывают, – уверенно отвечал реб Мойше. – В земле Израиля».
Борух зажмуривался – и перед глазами вставали неведомые горы с ущельями настолько узкими, что их, словно амбары, можно было запирать с обоих торцов. Он думал: «Увижу ли когда-нибудь Землю Израиля? Увижу ли такие ущелья?»
Увидел.
Борух отворил глаза. Он сидел на сундуке, стоящем поперек тропы. Слева и справа из трав и зарослей проглядывали белесые скалы. Все это было реальностью – и Земля Израиля с Иерусалимом в сердце, и ущелье, которое можно – раз-два – и превратить в ловушку. Вот только, похоже, не добраться до Иерусалима ни ему, ни его спутникам, потому как в ловушке-то оказались они сами, а никакие не греки.
Борух снова прикрыл глаза. Как это замечательно было три дня назад – впервые увидеть Землю Израиля! Прошла неделя с тех пор, как он покинул Малороссию. Стояла ранняя весна. Ивы развешивали желтые космы. Кружевом казался светло-бурый хаос голых кустарников. И все время дожди, дожди, холодные, колкие. Временами дождь замирал, выглядывало солнце, и деревья распрямляли тонкие ветви с нанизанными на них бриллиантовыми каплями. Но вскоре солнце вновь тонуло в серой толще неба. День за днем они добирались до Одессы по трактам, облепленным лужами, серыми, как небо. Желтые соломенные поля, хутора тут и там. Кое-где вспучивались приземистые круглоголовые церквушки. А в низинах, лесах и на вертлявых речушках сохранялся еще полулед-полуснег с вросшими в него сорванными зимним ветром ольховыми сережками. Навстречу шли крестьянки в белых платках, ковыляли собаки с длинными мордами,с мокрой шерстью, свалявшейся в толстые иглы, что делало их похожими на больших ежей. И вот Палестина! Зеркальный залив, дома белыми кубиками, то тут, то там одинокая пальма. Прибрежные рифы высунули из воды бурые носы. И воздух! Волшебный, сладкий воздух, какого больше нигде в мире нет. Барка, груженная людьми и сундуками, расталкивая волны, двигалась к Яффе, а корабль, который доставил их сюда из Одессы, становился все меньше и меньше, отступая в море. Так когда-то уходил от этих же берегов корабль, на котором уплывал пророк Иона. Но Иона убегал прочь от Б-га, а они – девять семей и пятнадцать одиночек – преодолели тысячи верст, чтобы вернуться к своему Б-гу. Вернуться и более уже вовек не покидать.