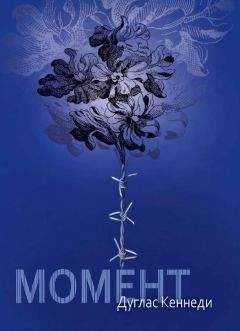Я оглядел комнату, простую кухню и стопки графических романов, сложенных в алфавитном порядке на полках. Йоханнес показал мне свою спальню, где стояла простая, аккуратно застеленная кровать. Похвастался своей богатой коллекцией дисков с записями каких-то странных скандинавских групп хеви-метал. Потом он толкнул другую дверь и сказал:
— Здесь работала и спала мама.
То, что я увидел, когда дверь распахнулась внутрь, потрясло меня. Комната была не больше семи квадратных метров. Петра спала на узкой кровати, которая занимала одну стену. Напротив стоял такой же простой письменный стол, облицованный белым шпоном, на нем — устаревший компьютер. Но тут мой взгляд переместился на книжные полки над ее рабочим столом. На двух балках длиной футов по шесть были расставлены все четырнадцать книг, что я написал. Оригинальные версии на английском языке и их последующие переиздания в бумажном переплете занимали верхний ярус. Внизу теснились переводы на немецкий, французский, итальянский, греческий, польский, шведский и финский языки.
Рядом стояли четыре толстые папки, на корешках которых было выведено: «Т.Н.: Журналистика». Открыв одну из них, Йоханнес показал мне подшитые статьи, которые я писал в течение последних двадцати лет для «Нэшнл Географик», «Нью-йоркского книжного обозрения» и литературного приложения «Таймс».
Как ей удалось отследить все эти публикации? И почему, почему ей было не все равно?
Как только в моей голове пронесся этот безумный вопрос, я инстинктивно потянулся к спинке стула и тяжело опустился на сиденье, зарыдав в голос. Я больше не мог держать это горе в себе.
Все эти годы… когда мне так хотелось увидеть ее, когда я уговаривал себя, что все осталось в прошлом и не стоит к нему возвращаться, нельзя открывать этот ящик Пандоры…
Все это время, когда я втайне страдал по ней, оплакивал все, что между нами было, что я нашел и потерял, те беды, что я навлек на нее своим предательством…
Все это время… она была рядом. Со мной. Следила за моими успехами, моей карьерой, собирала мои книги на всех языках, какие только могла достать, отслеживала мои журналистские публикации, чтобы всегда быть в курсе, чем я занимаюсь, что у меня на душе, что беспокоит в профессии, что я думаю и пишу о мире и жизни.
Когда я увидел эти тщательно подобранные статьи и книги — мое скромное литературное наследие, все, что останется после меня, — мне в голову пришла очень простая мысль, но она захватила меня и уже не отпускала.
Она любила меня. А я этого не разглядел.
Йоханнес сидел на краю кровати и взирал на мои слезы с холодным безразличием. Когда я наконец успокоился, он сказал:
— Когда-то я вас ненавидел. Каждый раз, когда мама тратила последние деньги на одну из ваших очередных книг, каждый раз, когда из Нью-Йорка, Лондона или Лиссабона приходила посылка с вашим новым опусом — а она ведь собирала и все эти чертовы переводы, — она садилась там, где сейчас сидите вы. И делала то же, что сейчас делаете вы. Она плакала.
Он поднялся и достал что-то с верхней полки. Пухлый манильский конверт. Он швырнул его на стол прямо передо мной. На конверте было написано мое имя. Ее рукой.
— Мама сказала, что, если однажды вы все-таки приедете в Берлин — и только если физически будете здесь, — я должен отдать вам это. Но вы можете прочитать это где-нибудь в другом месте. Мне совсем не хочется торчать тут с вами.
Он направился к двери. Я взял конверт и последовал за ним. Он открыл входную дверь. Я вышел за порог, с конвертом под мышкой.
— Я виноват, — прошептал я. — Мне очень… жаль.
Йоханнес уставился куда-то вдаль. И сказал:
— Кому ж не жаль.
МОИ ЛЮБИМЫМ ТОМАС.
Ну вот. Наконец-то. Enfin. Endlich[113].
Знаешь, все-таки немецкий синоним звучит лучше. Endlich — в конце концов. Что так и есть. Письмо, которое мне следовало бы написать много лет… нет, десятилетий… назад. Но я все откладывала по разным причинам. Какие-то были очень сложные. Какие-то — слишком личные. А какие-то — просто будничные.
Endlich.
С чего же начать?
Наверное, с фактов.
Вот уже пять лет как я заложница рака крови. Медицина придумала ему замысловатое название: Пре-В-клеточный острый лимфобластный лейкоз. За шестьдесят месяцев я, конечно, начиталась всякого об этой болезни, которая, похоже, отправит меня на тот свет раньше, чем хотелось бы. Существует около двух десятков разных толкований, но недавно я нашла в Сети вот какое (специально привожу его, поскольку, как мне кажется, оно все объясняет):
«Острый лейкоз характеризуется ускоренным ростом незрелых кровяных клеток. Их переизбыток приводит к тому, что костный мозг перестает вырабатывать здоровые кровяные клетки. При острой форме заболевания требуется немедленное лечение в связи с быстрыми темпами накопления злокачественных клеток, которые попадают в кровеносную систему и разносятся по всем органам».
Я даже усмехнулась про себя, когда читала про незрелые кровяные клетки, которые и вызвали весь этот хаос в моем организме. Видимо, он поселился во мне где-то лет в двадцать, когда я сама была слишком незрелой в своих взглядах на мир.
Или я просто хватаюсь за подходящую метафору?
На том же сайте я прочитала о причинах возникновения лейкемии:
«Болезнь возникает не только из-за генетических факторов, на нее также влияют внешние причины, в том числе воздействие радиации…»
Разумеется, выкуривая ежедневно по две пачки сигарет на протяжении последних тридцати лет, я не слишком помогла себе. Но радиация… не зря в криминальных романах ее называют оружием-невидимкой. Я рассказывала тебе о том, как меня «фотографировали» в Хохеншонхаузене во время моего первого ареста. После депортации из Западного Берлина в 1984 году меня опять отправили туда же — не то чтобы мне сказали, в какую тюрьму я попала, но по предыдущему опыту я уже могла сама догадаться, что это Хохеншонхаузен. А причина моего ареста была связана с гибелью их любимого герра Хакена. В Штази были уверены, что именно я его прикончила. Когда БНД и американцы передали меня обратно в Штази — и это после того, как я умоляла их предоставить мне политическое убежище (но, как сказал один из твоих соотечественников, «один раз мы уже это сделали, и вот что получилось»), — те сразу отправили меня за решетку по подозрению в убийстве. Все дело в том, что я так мастерски замела следы — и Хакен не оставил никаких свидетельств нашей встречи в Гамбурге, — что им нечего было предъявить мне. Конечно, они опять взялись за свои излюбленные психологические пытки — лишали меня сна, мучали допросами по восемнадцать часов в сутки. Но с той самой минуты, как меня заперли в камере, я знала, что у меня есть козырь. И этот козырь — мое молчание. Если бы я призналась в убийстве — всё, я была бы обречена. Мне светило пожизненное заключение. Кошмар до конца моих дней. А молчание давало мне шанс, потому что у них действительно не было ничего против меня.
Вот такую тактику я выбрала, и эта война нервов, которая продолжалась в течение пяти месяцев моего заточения в Хохеншонхаузене, шла, конечно, не на жизнь, а на смерть. Каждые три дня меня водили «фотографировать». И всякий раз я возвращалась в камеру с красными рубцами на спине.
Радиация.
Но я все-таки оказалась сильнее. Они отчаялись выбить из меня признание. Правда, сказали, что теперь у меня нет никакой надежды на воссоединение с Йоханнесом. Но ты должен знать, что случилось со мной в самом начале моего заточения. Я была беременна — недель шесть — восемь — нашим ребенком. В тюрьме меня сразу отправили на медосмотр. Кровь и моча показали беременность. Поскольку они знали из отчетов Хакена, который доложил о моей «связи», что отец ребенка — ты, они стали действовать. Однажды меня привели в тюремную больницу. Я потребовала объяснений. Они сказали, что это еще один обычный осмотр. Я почувствовала неладное. Потребовала вызвать главного врача. Требовала адвоката. Требовала…
Но вдруг в кабинет ворвались два медбрата. Когда я попыталась вырваться, они скрутили меня, а дежурный врач сделала укол, от которого я потеряла сознание.
Очнулась через несколько часов, привязанная к больничной койке. По боли между ног я догадалась, что они сделали со мной, пока я была под анестезией. Врач — ее звали Келлер — подошла ко мне и с улыбкой объявила:
— Мы выскребли из вас эту капиталистическую заразу. Навсегда.
В этот момент я поклялась, что когда-нибудь уничтожу эту женщину. Так же, как уничтожила Хакена. И еще я твердо решила узнать имена людей, которым отдали Йоханнеса, и тоже разрушить их жизнь. Мне страшно признаваться в этом сейчас. Но хоть я и простила Юдит — понимая, что она сделала это из-за собственной слабости, из страха, не выдержав их давления, — я отказывалась прощать тех, кто позволил системе совершать преступления. Сейчас, на смертном одре, я могу признаться: я ни на мгновение не пожалела о том, что расправилась с Хакеном. Он медленно убивал меня своей жестокостью, и я знала, что, когда поступит приказ устранить меня, он его исполнит не задумываясь. Думаю, Штази не расправилась со мной только потому, что американцы и БНД знали о моем существовании. Даже при том, что они депортировали меня обратно, мое «самоубийство» выглядело бы подозрительным. Гораздо эффективнее было сломать меня психологически. Лишить ребенка, нашего с тобой ребенка, которого я так хотела. А потом сослать в самый унылый уголок нашей унылой республики — Карл-Маркс-Штадт.