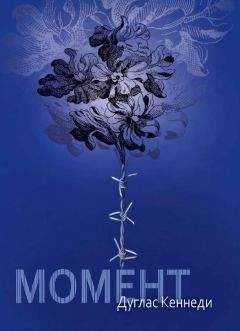Я так хотела этого ребенка. Я знаю, что не должна была втайне от тебя соскакивать с таблеток. Да, если бы только мне хватило смелости рассказать тебе обо всех своих призраках…
Но я этого не сделала. Потому что — и я понимаю это только сейчас — не считала себя достойной счастья быть с тобой, той жизни, которая могла у нас сложиться. Наверное, это было самое трудное для меня в последние тридцать лет. Знать, что ты мой единственный мужчина, что никогда и никого я не любила так, как тебя. Знать — и эту печаль я унесу с собой в могилу, — что с тобой я испытала восхитительный миг счастья.
Но если мы не можем удержать это мгновение, оно и остается всего лишь мгновением. А жизнь подчиняется безжалостной логике, и ее поступательное движение неумолимо, как и бег времени. Пока оно не истекает для тебя.
Думать о том, что уходишь из жизни в пятьдесят с небольшим… я вспоминаю тех палачей, которые испытывали на мне радиационные пушки, приближая мою смерть.
Но через пятьдесят лет — когда их тоже не будет, когда болезни и старость заставят их покинуть этот мир — вспомнит ли кто-нибудь о том, что секретный аппарат исчезнувшего государства когда-то использовал радиацию для маркировки политических заключенных, обрекая их на смерть от рака крови? Вспоминают ли сегодня люди о последствиях применения горчичного газа в Первую мировую войну? Или о вспышках тифа в окопах? Может быть, в 1910 году в Берлине у какой-то другой женщины несправедливо отобрали годовалого сына и так и не вернули (в отличие от меня)… и она так и не пережила эту разлуку? Кто расскажет ее историю сегодня? Никто. Потому что ее родные, друзья, коллеги, соседи, люди, с которыми она росла, кузены, с которыми она встречалась раз в год, старичок, у которого она каждое утро покупала газеты, уже давно ушли из жизни. Но я думаю о той боли, что она несла в себе, и о личной боли каждого, кто жил с ней в одно время. Все они, как и мы, боролись, страдали, любили — в то мимолетное мгновение, которым была их жизнь.
Но смерть стерла с лица земли целое поколение. А боль, которую они несли? Исчезла. Забыта.
Я не считаю свою жизнь несчастливой. Наоборот… Ганс переехал вместе со мной из Карл-Маркс-Штадта и вернулся на радио, в теперь уже единой Германии. Хотя в Берлине мы жили в разных квартирах — поначалу я думала, что Йоханнесу нужно дать время привыкнуть, да и нам с Гансом было проще без общего быта, — мы оставались парой до самой его смерти от рака поджелудочной железы два года назад. Была ли это любовь? Не могу сказать. Но он был моим любовником, моей опорой. Когда моя болезнь вовсю заявила о себе, это он настоял на том, чтобы я снова обратилась к своему адвокату-ротвейлеру, Джулии. Она добилась для меня государственной субсидии. Небольшой, но хватило, чтобы купить Йоханнесу квартиру, и теперь я могу умереть, зная, что мой сын не останется без крыши над головой до конца своих дней.
И вот как раз о Йоханнесе я бы хотела поговорить с тобой, любимый. Теперь, когда Ганса нет и я скоро уйду, он останется совсем один в этом мире.
Хотя он вполне может себя обеспечивать, он практичный и хозяйственный, умеет стирать и заправлять постель, я боюсь, что он останется без друзей. В полной изоляции. В одиночестве.
Поэтому, если только это возможно, я попрошу тебя об одном: стань ему другом. Ему нужен кто-то, с кем он может поговорить, посоветоваться, на кого он может опереться. Если ты читаешь это письмо, значит, ты проделал весь этот путь из Мэна до Берлина, потому что у нас осталось много недосказанного. И потому что боль утраты никуда не ушла.
Мне, конечно, следовало написать тебе много лет назад. Я мечтала об этом, но так же и гнала эту мечту. Потому что мне было стыдно за свой обман. И я думала, что не заслуживаю прощения. Мы ведь все одинаково нелепые, не так ли? Держимся за свои страхи, агонии и маленькие драмы и отгораживаемся ими от того, чего так хотим и на самом деле заслуживаем.
Любить тебя. Быть любимой тобой. Какое счастье. Я заслуживала тебя. Ты заслуживал меня. Был момент — и вот уже его не стало. И я по-прежнему думаю о нас и плачу тихими слезами.
Ich liebe dich. Damals. Jetzt. Immer.
Deine Petra.
Ich liebe dich. Damals. Jetzt. Immer.
Я люблю тебя. Тогда. Сейчас. Всегда.
Deine Petra.
Твоя Петра.
Я уронил письмо на стол и очень долго сидел не двигаясь. Было глубоко за полночь. Чуть раньше я поужинал один в Пренцлауэр-Берге. Прошелся по модерновым улочкам вокруг Кольвицплац, мимо дома 33 по Рикештрассе, где когда-то жила Юдит и куда двадцать шесть лет назад я пришел за фотографиями сына той женщины, которая стала любовью всей моей жизни. Женщины, которую предала другая женщина. А потом и я тоже. Потому что решил, что она предала меня.
Но на самом деле я предал себя.
Petra. Meine Petra.
Письмо так и оставалось в запечатанном конверте, пока я ужинал, а потом выпивал в баре на Пренцлауэр-аллее. Только после того, как я медленно вернулся пешком на Александерплац, пропустил рюмочку на ночь в баре отеля и поднялся к себе в номер, я осмелился открыть его.
Я прочитал его один раз. Встал, начал ходить по комнате — ошеломленный, потерянный. Прочитал письмо второй раз. Третий. И тут какая-то сила сорвала меня с места, я схватил пальто, ключ от номера и бросился к двери.
На улице было холодно. Выпал первый снег. Я свернул направо и пошел мимо старых жилых кварталов эпохи ГДР, мимо гигантской стройплощадки, где некогда стоял железобетонный монстр, Дворец Республики, в котором размещался парламент ГДР. Когда его громили в 2002 году, в стенах и конструкциях был обнаружен токсичный асбест.
Асбест — радиация — рак.
Petra. Meine Petra.
Я шел дальше, мимо обновленных зданий Берлинского кафедрального собора, Музея истории искусств, Государственной оперы, Гумбольдтского университета, где когда-то училась Петра. Конец эпохи коммунизма требует новых красок, не так ли? Унтер-ден-Линден — некогда бесцветный восточноберлинский бульвар — теперь был настоящей туристической меккой. Музей Гуггенхайма. Автосалон «Феррари». Пятизвездочные отели. Большим городам это под силу. Сбросить устаревшую маску и, предъявив тот же (но отрестарированный) экстерьер, стать новым чудом света. Человек ведь тоже легко меняет физическую форму. Мы можем похудеть и нарастить мышцы, а можем расслабиться и одряхлеть. Одеждой мы можем создать любой имидж и громко заявить о себе миру. Мы можем демонстрировать свое благополучие или нищету, самоуверенность или сомнения. Мы, как и города, можем измениться внешне до неузнаваемости. Но что мы никогда не сможем сделать, так это изменить историю, которая сделала нас такими, какие мы есть. В этой истории нагромождение всех пластов нашей жизни — удивлений и разочарований, жестокости и безнадежности, озарений и беспросветной тьмы. Мы есть то, что было с нами. И мы несем с собой все то, что вылепило нас, — все, чего мы были лишены; все, чего хотели, но так и не получили; все, что получили, но никогда не хотели; все, что нашли и потеряли.
Петра была права: есть такие моменты жизни, которые нас полностью перекраивают и остаются с нами навсегда.
И нельзя закрыть дверь перед призраками, которые до сих пор нас преследуют.
Petra. Meine Petra.
Я свернул налево, на Фридрихштрассе. Здесь магазины были еще более роскошными. Швейцарские часы. Парижский от-кутюр. Шведский дизайн. Бельгийский шоколад. Все было закрыто, наглухо загорожено ставнями. Улица была пустынна. Как и весь город. Я шел вперед, и слова Петры звучали во мне, и чувство утраты было не просто острым, оно было каким-то щемящим и пронзительным… даже спустя двадцать шесть лет.
Смогу ли я когда-нибудь примириться с тем, что произошло? Или эта боль навсегда? Счастье обретенное. Счастье утерянное. Счастье растоптанное. Мы в гораздо большей степени хозяева своих судеб, чем готовы в этом признаться. Даже сталкиваясь с трагедией, мы можем выбрать — сломаться под ее тяжестью или с трудом, но двигаться дальше. Проще говоря, у нас всегда есть выбор — уйти или остаться. Стремиться к домашнему очагу и в то же время бояться его западни. Сознавать, что принимаешь заведомо неправильное решение, но все равно идти напролом. Принять любовь или обойти ее стороной.
Я был виноват во всем, что перечислил. Только сейчас — когда в ушах еще звучал голос Петры — до меня дошло, что выбор, который я сделал в своей жизни, и привел меня сегодня сюда. Я брел по заснеженной улице — убитый горем, одинокий, разведенный с женой, которую никогда не любил, скучающий по дочери, мечтающий о том, как все могло бы сложиться с Петрой… совсем иначе (наверное, счастливо), если бы только я выслушал ее, когда она умоляла об этом.
«Был момент — и вотуме его не стало. И я по-прежнему думаю о нас и плачу тихими слезами».