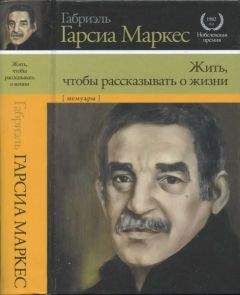Ни один из этих случаев меня не отвлек ни на мгновение от моего журналистского жернова. Изначальный успех серийных репортажей обязал нас искать сухой корм для скота, чтобы накормить ненасытного зверя. Ежедневное напряжение было невыносимым не только из-за определения и поиска тем, но и процесса письма, всегда находящимся под угрозой чар вымысла. В «Эль Эспектадоре» не было сомнения: первичным сырьем, неизменным в ремесле, была правда, и ничего, кроме правды, и это нас поддерживало в невыносимом напряжении. В результате мы с Хосе Сальгаром впали в эту дурную привычку, которая нас не отпускала даже во время воскресного отдыха.
В1956 году стало известно, что папа Пий XII страдал от приступа икоты, который мог стоить ему жизни. Единственный прецедент, который я помню, — это главный рассказ Сомерсета Моэма «Пи энд О», главный герой которого умер посередине Индийского океана от приступа икоты, который его истощил за пять дней, пока со всего мира к нему приходили разного рода экстравагантные рецепты, но я думаю, он не знал этого в тот момент. По выходным мы не осмеливались отправляться в довольно далекие походы по населенным пунктам саванны, потому что газета была наготове для экстренного номера, в случае смерти папы римского. Я был сторонником уже готового издания, но только с пустотами, чтобы заполнить их первыми свидетельствами смерти. Два года спустя, когда я был корреспондентом в Риме, все еще ожидалась развязка папской икоты.
Другой непереносимой проблемой в газете была тенденция занимать нас только броскими темами, которые могли каждый раз привлечь больше читателей, а у меня была самая непритязательная склонность не терять из виду другую публику, менее обеспеченную, думающую больше сердцем. Среди тех немногочисленных сюжетов, что мне удалось найти, я храню воспоминание о самом простом репортаже, который я схватил на лету сквозь окно автобуса. На двери одного красивого колониального дома номер 567 по улице Октава в Боготе была табличка, которая недооценивала саму себя: «Контора дешевой распродажи национальной почты».
Я вышел из автобуса и позвонил в дверь. Человек, который мне открыл, был ответственным лицом учреждения с шестью методичными служащими, покрытыми ржавчиной рутины, чьей романтической миссией было встречать адресатов каких-либо неверно адресованных писем.
Это был красивый дом, огромный и пыльный, с высокими потолками и обшарпанными стенами, темными коридорами и галереями, набитыми документами без хозяина. В среднем из сотни невостребованных писем, которые поступали каждый день, по крайней мере десять были хорошо оформленными — с наклеенными марками и т. д., но остальные были пустыми и не имели даже имени отправителя. Служащие учреждения называли их «письма для невидимого человека» и не жалели сил, чтобы доставить их или вернуть. Но церемония их вскрытия в поисках следов была в действительности скорее бесполезной, однако похвальной.
Репортаж об одном вручении был напечатан под заголовком «Почтальон звонит тысячу раз» и с подзаголовком «Кладбище потерянных писем». Когда Сальгар прочитал его, он мне сказал: «Этому лебедю не нужно ломать шею, потому что он уже родился мертвым». Он демонстративно опубликовал его, ни больше ни меньше, но было заметно в выражении лица, что ему было горько, как и мне, из-за печали от того, чем он смог стать. Рохелио Эчеверрия, потому что был поэтом, его охотно похвалил, но одну фразу я не забуду никогда: «Дело в том, что Габо хватается за соломинку».
Я почувствовал себя таким упавшим духом, что на свой страх и риск, не рассказав об этом Сальгару, решил отыскать получательницу одного письма, которое заслужило мое особое внимание. Оно было отправлено в лепрозорий в Агуа де Дьос и адресовано «сеньоре в трауре, которая каждый день в пять часов ходит на мессу в церковь де лас Агуас». Предприняв разного рода бесполезные расследования с приходским священником и его помощниками, я стал опрашивать верующих, пришедших на пятичасовую мессу, на протяжении нескольких недель без какого-либо результата. Меня поразило, что самыми упорными были три самые пожилые прихожанки, всегда в глубоком трауре, но ни одна из них не имела ничего общего с лепрозорием в Агуа де Дьос. Это был крах, на который я потратил время, чтобы восстановиться, не только из-за самолюбия, ради благого дела, а потому что был уверен, что за этой историей женщины в трауре была другая захватывающая история.
По мере того как я терпел кораблекрушение в топях репортажа, моя связь с группой из Барранкильи становилась все более интенсивной. Их поездки в Боготу не были частыми, но я их осаждал по телефону в любое время в любой неприятности, особенно Хермана Варгаса благодаря его педагогическому пониманию репортажа. Они меня консультировали в каждом затруднительном положении, которых было много, и они мне звонили, когда были поводы поздравить меня. Альваро Сепеду я имел всегда как соученика за соседней партой. После сердечных шуток в ту и другую сторону, которые на самом деле были всегда в группе, меня вытаскивали из болота с простотой, которая никогда не переставала удивлять меня. Зато мои консультации с Альфонсо Фуэнмайором были больше литературными. Он обладал точным волшебством спасать меня из затруднительных положений примерами из великих авторов или продиктовать мне спасительную цитату, вызволенную из его бездонного арсенала. Его мастерской шуткой было, когда я спросил его о названии статьи о продавцах уличной еды, загнанных органами санитарного надзора. Альфонсо бросил немедленный ответ:
— Тот, кто продает еду, не умрет от голода.
Я его поблагодарил за название, и оно мне показалось настолько уместным, что я не смог не поддаться соблазну спросить его, чье это высказывание. И Альфонсо меня внезапно удивил правдой, которую я не помнил:
— Твое, маэстро.
Действительно, я его придумал экспромтом для одной статьи без подписи, но забыл о нем. Анекдот вращался несколько лет среди друзей из Барранкильи, которых мне никогда не получилось убедить в том, что это не было шуткой.
Случайная поездка Альваро Сепеды в Боготу меня отвлекла на несколько дней от галеры ежедневных новостей. Он приехал с идеей сделать фильм, от которого у него было только название: «Голубой лангуст». Это было точное заблуждение, потому что Луис Висенс, Энрике Грау и фотограф Нерео Лопес приняли фильм всерьез. Я снова ничего не знал о проекте до тех пор, пока Висенс мне не прислал черновик сценария, чтобы я что-то внес со своей стороны в оригинальную основу Альваро. Что-то я добавил, что сейчас не помню, но история мне показалась примечательной с достаточной дозой безумия, характерной для нас.
Все сделали понемногу, но отцом, по собственному праву, был Луис Висенс, который вложил многое из того, что осталось от его первых шагов в Париже. Моей проблемой было, что меня застали посреди одного из тех нудных репортажей, которые мне даже не оставляли времени, чтобы дышать, и когда я смог освободиться, «съемка фильма была уже в полном разгаре в Барранкилье».
Это было простое произведение, чьей главное заслугой было господство интуиции, которая, возможно, была ангелом-хранителем Альваро Сепеды. На одной из многочисленных домашних премьер в Барранкилье был итальянский режиссер Энрико Фулкиньони, который нас удивил радиусом действия своего сочувствия: фильм ему показался очень хорошим. Благодаря упорству и доброй дерзости Титы Манотас, супруги Альваро, тому, что до сих пор остается от «Голубого лангуста», дали прокат по всему миру на смелых фестивалях.
Эти вещи нас отвлекали иногда от реального положения страны, которое было ужасным. Колумбия считалась свободной от партизанских войн с тех пор, как вооруженные силы забрали власть под флагом мира и согласия между партиями. Никто не сомневался, что что-то поменялось, вплоть до убийства студентов на улице Септима. Военные, жаждущие доводов, хотели доказать нам, журналистам, что это была война, отличная от вечной войны между либералами и консерваторами. Мы были заняты доводами, когда Хосе Сальгар подошел к моему письменному столу с одной из своих ужасающих идей:
— Готовьтесь познать войну.
Мы, приглашенные узнать ее без особых подробностей, собрались без опозданий в пять часов утра, чтобы отправиться в населенный пункт Вильяррика, в ста восьмидесяти трех километрах от Боготы. Генерал Рохас Пинулья ожидал нашего визита на привале во время одной из своих частых передышек на военной базе Мельгар и обещал пресс-конференцию, которая закончилась бы до пяти часов вечера, со временем достаточным, чтобы вернуться с фотографиями и новостями из первых рук.
Собственными корреспондентами «Эль Тьемпо» были Рамиро Андраде с фотографом Херманом Кайеседо и еще примерно четверо, которых я не смог вспомнить, и мы с Даниэль Родригесом из «Эль Эспектадора». На некоторых была военная одежда, из предосторожности, что, возможно, нам придется сделать несколько шагов внутрь сельвы.