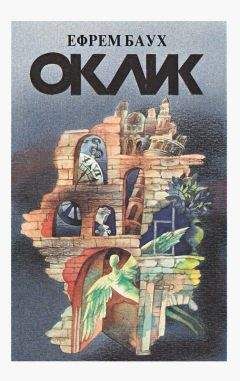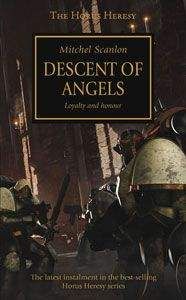Странные это были дни: будто я вступил в какой-то параллельно длящийся мир, где все происходит помимо воли, и когда мне предъявят обвинение в убийстве, растлении, краже я не смогу быть абсолютно уверенным, что этого не совершил.
И что было особенно любопытно: пребывая в состоянии, когда уже несколько месяцев душа все еще продолжала висеть на кончике того пера, все семинары и экзамены я выполнял отчужденно и машинально, без волнения.
В начале июня мы поехали на военные сборы. Приближался республиканский фестиваль, предшествующий московскому, а для меня все эти месяцы, начавшиеся мимолетным упоминанием о фестивале, были сплошной карнавальной свистопляской, где маски были не просто атрибутами, а выражали истинную и страшную сущность открывшейся мне жизни.
Разве не был карнавальным, к примеру, тридцать седьмой со знаменитыми фестивальными процессами смерти, пятидесятые – с карнавальными вакханалиями вокруг идола космополитизма или языкознания со срыванием "всех и всяческих масок". Разве не попахивала трагическим карнавалом эта потрясающая система заочных характеристик?
Девиз: "Мы вам верим, пишите все, что думаете о нем".
И все пишут на всех – и круговое доносительство – как неощущаемая круговая порука подлости.
… время пения настало, и голос горлицы
слышен в стране нашей; смоковницы распустили
свои почки и виноградные лозы, расцветая,
издают благовоние.
Песнь Песней, 2, 12,13
МАРТ: КАРНАВАЛ И ТРЕВОГА.
ГЕРОИ ГЕРОИНА И МИНИ-МИНИСТРЫ.
ВОДЯНОЙ ГУЛ ВЕЧНОСТИ.
ОТ ТЕРМИДОРА ДО МЕРИДОРА: ВСЕМ ПО
ЛАМПОЧКЕ.
НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ.
ЯМИТ: ПЕЧАЛЬ РАССТАВАНИЯ.
ТАЛМЕЙ – ИОСЕФ И ХАЦЕР – АД АР.
НОЧЬ НА ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ: МИНУТА МОЛЧАНИЯ
ИСТОРИИ.
Март восемьдесят второго насыщен тревогой и карнавалом. Опьяненные запахом собственных пробуждающеющихся по весне корней, дубовые леса спят в долине Аела.[91] Неполная луна столь же таинственно, как тысячу лет назад, освещает легендарно безмолвный холм Азека, на котором сразились Давид и Голиаф.
Не проникая в глубь катакомб и пещер у Бейт-Говрин, где прятались воины Бар-Кохбы после разгрома восстания, луна, как слепец, ощупывает ваши лица и фигуры: батальон зеленых юнцов, однако же потомков воинов Бар-Кохбы, с тревогой пещерных жителей вглядываются в мерцающие под луной очертания Иудейских гор. В каждый миг может прозвучать команда – и начнется марш-бросок туда, в горы, семьдесят пять километров, "поход беретов", в конце которого каждый салага сменит свой оливковый берет – на берет воина. Все заняты делом, сыплют тальк между пальцев ног, натягивают по две пары носков под неожиданно бодрый голос вечно сонного сержанта: Теперь увидим, болтуны-пустомели, на что вы способны? "
Начинается: три носилки с ранеными и – "на взлет", марш, через каждую минуту – смена ведущих; пом-комвзвода побежал, потому что было под уклон, а Шонк ему вдогонку: "Почему бегом? Ну так придем часом позже".
Рассвет безмолвен. Только тяжкое дыхание идущих.
Через несколько часов кавалькадой – Адлайадой[92] по Тель-Авиву прокатится Пурим.
Иду от дома пешком до улицы Алленби, в которую с улицы Бен-Иегуда хлынет карнавал. Тротуары забиты людом, на балконах и крышах гирлянды лиц.
Рев громкоговорителей.
Командиры подбадривают идущих, почти бегущих, иногда падающих с ног.
Внезапно, на вираже, из-за поворота пустой улицы выносит поток диковинных автомашин – пестрые причудливые жуки тридцатых годов, ситроены, форды, фиаты – из каких-то щелей, в которых они дремали до времени, выползли эти фасеточноглазые, сверкая никелевыми фарами. Формы их успели устареть и быть отвергнутыми, чтобы вновь вернуться; зуд моторов, крик шоферов, наряженных клоунами, тысячи глаз жадной до развлечения публики.
Гиди Дойчер, профессионально вошедший в роль раненого, трясется крупной дрожью, взлетая и падая на носилках в воздушные ямы в каждый миг, когда меняются носильщики. Отстающих подбадривают, подталкивая в спину, иногда подхватывая с двух сторон. Кружение рощ, опившихся дубовым настоем мартовской свежести, томление юношеской души – все топчется тяжкими солдатскими ботинками.
Очередное чучело злодея Аммана качается на виселице под полотнищем с надписью – "Такова участь каждого, кто лижет зад королю!"; гигантский Артаксеркс из папье-маше припал к бутылке, лихо заломив за ухо корону английского короля Ричарда, а вокруг неистовствует цветистая и шумная верблюдопедия – медленно идущие, погруженные в себя, молчаливо взирающие на мирскую суету и гвалт верблюды облеплены одалисками, шейхами, визирями, звездочетами, пьеро и арлекинами; мартовский бриз со стороны Средиземного моря раздувает шальвары, кимоно и домино, веера и кивера, смешивая розово-гаремную парфюмерию персидских легенд и арабских сказок с фантазиями Гофмана и братьев Гримм; но уже наплывают дыханием водорослей и моря огромные левиафаны и осьминоги, несущие корабль, на палубе которого пляшут одноглазые и одноногие пираты с ножами в зубах.
Сухое русло вади Сансан только усиливает ощущение бессилия, жажды, но и упрямства; гора Сансан, покрытая жестким кустарником, словно бы стриженная коротко, по-солдатски, с таким же солдатским упорством не сдвигающаяся с места, наконец-то отвалила вправо; впереди какое-то селение, и не верится, что там, совсем рядом, в эти минуты живут нормальной человеческой жизнью: не бегут. У Цур-Адаса и Мево-Бейтар поворот на юг – в сторону Рош-Цурим и Кфар-Эцион – сухие горы, сухие вади, верблюжья шкура пространства.
Ревут громкоговорители:
"Вот они. Идут парадом. Герои героина, кока-колы и кокаина. Наркомы наркоманов. Мэры и премьеры. Мини-министры на час, не для примеров и примерок. Неоперившиеся хищники пера, фармазонщики-телевизионщики, журналисты-эквилибристы и шпагоглотатели. "Вечного колеса" изобретатели от наполеоновского Термидора до израильского Меридора. Комики-иллюзионисты и камикадзе-автомобилисты. Теоретики-еретики. Политические жонглеры и горлодеры. Солоны, несолонно хлебавшие. Хилософы – бесплотнее Плотина. Шоферы, гудящие в шофары".
Так проходит слава мирская. Парадом.
Через пустынные улочки Керем Тейманим[93] выхожу к морю, сразу – обрывом – тишина, ровный шум вод.
Стена декоративной зелени дымится под ударами влажного солнца. Рыжий в проплешинах и подпалинах берег в который раз впадает в молодость, с бесстыдной застенчивостью покрываясь весенней шерсткой зелени.
Одинокая девушка с книгой. Берег пустынен. Весь люд, в любое время дня и ночи, снующий по набережной, втянуло пылесосом пуримского карнавала, рев которого доносит издалека порывами ветра.
Из каких-то окон обдает музыкой, негромко, щадяще, тревожно, до обмирания сердца: "Токката и фуга" Баха.
Тишина и синий фильтр морских пространств. И музыка – ручей в бликах солнца, несущий весь сор жизни, еще более высвечивающий зеленый выдох дерева, март восемьдесят второго, полный щемящей тревоги и невнятных надежд.
Одинокий голос, пропадающий в шуме моря. Человек над обрывом, обращен в даль, кличет кого-то: говорят у него утонул сын, но тела его не нашли, вот он и сошел с ума – кличет, уверенный, что тот в море, живет и резвится с дельфинами.
Где-то между Кфар-Эционом и Ткоа, после долгих петляний в горах, – привал: гул во всем теле, боль в плечах и спине. А вокруг погруженные в белесую солнечную дымку складки пустыни с Бейт-Лехемом на севере и горой-дворцом Ирода – Геродионом северо-восточнее: школьная экскурсия на Геродион год назад кажется каким-то немыслимым сновидением счастливого детства.
И опять – команда. И – еще половина пути по вади Ткоа – в сторону Мертвого моря, и – "раз, два", екает селезенка, пытаешься подбадривать себя, напевая песенки, приговаривая, например, "Молод, глуп, не кушал круп", что очень помогало в первые ночные дежурства на вышке, когда, прихватив из кухни, и вправду жевал сухую крупу, отгоняя сон. Полегчало. Даже как-то взбодрило. Второе дыхание, что-ли?
Облака чернеют над морем, как дым ушедших эскадр.
Мальчишки в оранжевых спасательных жилетах возятся с парусниками у берега. Желтые, белые, алые паруса трепещут на слабом ветру крыльями бабочек. Рядом с тренером девица. Тонкая, гибкая. Потягивается, изгибаясь ленивым движением, подставляя лицо выглянувшему из-за облаков солнцу, – и в этом непроизвольно раскрывшем себя мгновении гибкости и лени – вырвавшийся наружу краешек истинной жизни, вот уже столько часов забиваемой ревом карнавала и невыносимостью бега по горам.
Хаг Пурим, хаг Пурим,
Хаг гадол лэ еладим…[94]
Доносит порывом ветра, по долам да по горам, рвется из транзистора на высотах Иудейских гор: наконец-то можно сбросить: а носилки, боевые жилеты, ботинки, пить и есть от пуза, лежать себе в блаженной расслабленности, наслаждаясь с высоты Кфар-Шалем раскинувшимся под тобой Мертвым морем, радуясь, что ваш взвод пришел первым, и всем выдали боевые береты, испытывать одновременно усталость и возбуждение, слыша как лежащий рядом и опять впавший в обычную сонливость сержант, бормочет сквозь дремоту: «Ух, доктор Дойчер, йохтибидон», внезапно и ясно понимая, что последнее слово из солдатского сленга – явно исковерканное из русского – "Ух, я тебе дам”…