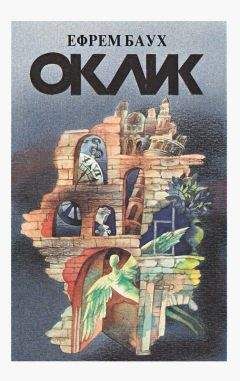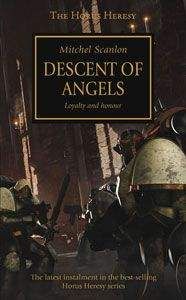Ведь это не караван. Это дом. И у каждого своя трагедия. Самое трудное для солдата снимать картины со стены или складывать в ящик детские игрушки, ощущая на себе пристальный взгляд их владельца и понимая, что в памяти этого человечка ты навечно останешься злым духом, первым страхом, вторгшимся в детское его сознание.
Вы просите кинооператоров у одного из домов: – Опустите камеры. Он не выйдет, если вы не прекратите снимать. Будьте милосердны хотя бы раз.
Выходят. Отец с четырехлетним сыном на плечах. Оба плачут. Сын в голос и все спрашивает, спрашивает, отец молчит, старается, чтобы малыш не видел его слез. Идут вдоль аллеи – к автобусу.
Ком, подкативший к горлу, боль и бессилие, стволы кинокамер, опущенные в землю, еще дымящиеся от стрельбы в упор – лицом к лицу – в схватке хладнокровного снайпера с безоружной жертвой, – все это остается за кадром того сюрреалистического фильма, который хлынет вечером сквозь экраны телевидения в колышущиеся, как в морской качке, на плаву жилища сынов Израилевых: и я буду сидеть как в воду опущенный, разглядывая беспомощные лица жителей Талмей-Иосеф, гуськом идущих к автобусу мимо вас, сквозь строй, мимо безучастных арабских рабочих с Рафиаха как в замедленной съемке разбирающих стеклянную теплицу – вот они сняли тонкое, хрупко колышущееся солнечным светом зеркало, рассмотрели его и бросили на землю – вдрызг, и так стекло за стеклом, как и всю бившую живым ключом на скудной этой почве жизнь – выкорчевать, разглядеть на свет и… вдрызг – мимо тут же рядом стоящих в черных своих лапсердаках бодрых и улыбающихся хасидов, которые приехали из Кириат-Малахи, чтобы попотчевать выселяемых поселенцев рюмкой вина или водки в честь праздника Пурим: и поселенцы равнодушно взирают на разбиваемые вдрызг зеркала их жизни, равнодушно берут рюмку, равнодушно трясутся в пуримском танце, в который их пытаются втянуть неунывающие хасиды; и опять ваши лица, и голос диктора, сдавленный, пытающий быть деловым и безучастным: "… И в черном сне не виделось этим ребятам, вчера лишь со школьной скамьи, добровольно пошедшим в специальные боевые части, что им прикажут заниматься таким стыдным делом"; и тут же – ненужной шуткой, излишним издевательством – изрядно потускневший поток масок и клоунов, ослов и верблюдов с уже покрывающейся пылью Адлайады.
Тысячелетия длится еврейский карнавал.
Сюрреалистический фильм продолжается. Уже личный, твой, закрепленный не на пленке – в твоей памяти, твоим взглядом, ощущениями, которые трудно выразить в голос, и он звучит как за кадром, хотя ты сидишь на том же диване, заскочив на сутки домой, и рассказываешь – и опять о Хацер-Адаре, куда каждый раз под покровом ночи просачивались поселенцы, и вас в который раз бросали на их выселение, о шлагбауме у Керем-Шалом, виноградника мира, на котором не перестают бушевать страсти, и вы возникаете у шлагбаума шумной оравой – в красных ботинках и арабских куфиях,[102] пиратски повязанных на голове, пугая аккуратно подтянутых морячков, ваших сверстников, будущих капитанов торпедных катеров, которых вы пришли сменить, и опять Хацер-Адар, и новый командир отделения Динбар, тут же получивший множество кличек – Хайбар[103], Денвер, Занзибар – и вновь выселения, и старик, бывший подпольщик, приехавший откуда-то из-под Хайфы, заклинивший дверь в одном из домов железной койкой, и несколько толчков – «Эй, ухнем!», распахивается дверь: старик лежит на полу, под железной сеткой, трясется и плачет: «Поглядите мне в глаза, дорогие солдаты! Не отворачивайтесь! Я прошел все круги ада в британских тюрьмах, и меня с этой земли не выкорчевали. Теперь это делают мои же сыновья»; и вы стоите растерянные, глядите в потолок, и кто-то из вас бросается с проклятием и задергивает занавески на окнах от глаз вездесуще-наглых журналистов; оставляете старика, которого через два часа там же, под койкой, застает трясущимся от холода полковник, имеющий ученую степень по психологии, покрасневший до корней волос, охрипший от волнения: «Дед, батя, клянусь, никто к тебе и пальцем не прикоснется, встань, прошу тебя, ведь я не могу с тобой разговаривать в таком положении»; и старик, отвечающий слабым голосом: «Я подчиняюсь приказу офицера Армии обороны Израиля».
Между тем сюрреалистический фильм продолжается.
Едем в машине – я, жена, ее брат с женой и оравой детишек – на коллективную бар-мицву[104] в Ямит, в мошав Приэль, который через день-два тоже начнут выселять: под склоняющимся к закату солнцем от шоссе короткими травами, разворошенным красноземом, островками деревьев разбегаются пустынные степи в сторону Газы и Синая. По самому горизонту бежит цепочка людей, едва различимых с такого далекого расстояния.
– Это он, – вздрагивает жена, имея в виду тебя, – там среди них он.
Все хором:
– Да ты, что с ума сошла?
– А я говорю – он.
Приближаемся. И вправду – ты.
Трудно даже вообразить ваше изумление, когда вдруг – прямо из безлюдной степи выкатывает машина, тормозит с ходу, и из нее горохом с визгом и криком высыпают папы, мамы, дяди, племяннички и племянницы. Стоишь, смущенный, обалделый. С тебя сдирают майку и тут же напяливают чистую, суют в карманы сладости, деньги. Махнув рукой, убегаешь вдогонку товарищам.
В огромном, как ангар, помещении ряды стульев, свет прожекторов, цветные ленты, музыка и речи, а меня ни на миг не оставляет ощущение, что все это вот-вот будет выкорчевано из земли – и уютные домики, и клумбы, и аллеи, и эти гигантские, кажется, навечно построенные помещения, заваленные ящиками еды и питья, которые просто подвозят гостям на металлических платформах; и мы, набрав пару ящиков еды, возвращаемся в ночь, вновь пересекаем шлагбаум в Керем-Шалом, въезжаем прямо в ваш лагерь, долго расспрашиваем охранника у входа, небритого резервиста в сандалиях на босу ногу, где палатки спецчасти "Шакед"; под одним из навесов узнаю Гауи; ребята дремлют на скамейках, стрекочет аппарат, показывают диапозитивы, кто-то что-то объясняет; тебя нет – уехал с командиром взвода в ночной дозор; несколько ребят, встрепенувшись, бодро выгружают ящики с едой, предвкушая пир, о котором ты уже расскажешь потом.
Горят звезды над землями северного Синая, по которым едем в последний раз, и стук шлагбаума, как лязг ножниц, навсегда отсекающих от нас мгновенно убегающие во тьму эти пространства, как хлопушка на киносъемках, отбивающая еще один эпизод уходящей в прошлое жизни.
ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ: ВЕЯНИЕ АМБРОЗИИ И
ПОЛЬШИ.
ИУДЕЯ: МАТЕРИК ПОГРУЖАЮЩИЙСЯ В БЛЕСК
ВЕСНЫ
И РАЙСКОЕ ПЕНИЕ ПТИЦ.
ЭЙН-ГЕДИ: ХРАНИЛИЩЕ АНГЕЛЬСКИХ ВИН.
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОСТОРГ ЭЙНШТЕЙНА.
ПРЕКРАСНЫЙ ОБВАЛ МИРА.
ГОРОД-ПРИЗРАК ДРЕВНИХ ПРОРОЧЕСТВ: ЯМИТ.
ПОЛНОЧЬ И БЕЗМОЛВИЕ.
ПАМЯТНИКИ: ОБЕЛИСКИ, РАЗВАЛИНЫ, ПУСТОШЬ.
ИСХОД И УХОД.
В жаркий, сверкающий, как начищенная медь, день седьмого апреля ты вваливаешься прямо к пасхальному столу весь с головы до ног в синайской пыли, вмиг у ванной вырастает гора обмундирования, оружия. Блаженное погружение в пену под стук вилок и звон стекла.
Отпустили до утра: в Ливане опять тревожно – летят снаряды "Катюш". На севере страны опять встречают Песах в бомбоубежищах.
В тарелках густой мед и тертый хрен: память о синайской свободе и египетском рабстве.
Пасхальная ночь опускается веянием амброзии и полыни.
И тонкий голосок племянника, самого младшего в семье:
– Ма ништана а лайла азэ ми кол алейлот?[105]
В этом неспокойном восемьдесят втором каждая ночь отлична, полна неожиданностей и ожидания.
И громкий стук ложек по пасхальному столу, сопровождающий каждую из десяти египетских казней.
Бацет Исраэль ми Мицраим бейт Яаков мэам лоэз…[106]
Заключенные в израильских тюрьмах провели пред-пасхальный конкурс на знание Библии: первая премия
– 72 часа на Песах в кругу семьи, дома, вторая – 48, третья – 24.
Авадим айну…[107]
Утром отвожу тебя на перекресток Месубин, где на обочине уже ждет вас огромный и пыльный армейский грузовик.
И вновь это ощущение пустоты под ложечкой, когда он исчезает за поворотом.
К этому мигу исчезновения привыкнуть нельзя.
Сама атмосфера восемьдесят второго насыщена беспокойством и возбуждением.
Девятнадцатого апреля суд над Абу-Хацирой. Массы марокканских евреев, затопившие здание тель-авивского суда, пестротой восточных одежд облепившие мощные спирали этажей "Дома Азии",[108] абстрактные скульптуры из железа и бетона на площади, соединяющей тель-авивский музей с судом в одно здание, то и дело выкрикивающие – «Мишпат Драйфус».[109]
Уезжаем в Эйн-Геди: хотя бы дня на три вырубиться из напряжения, в палатку, на берег Мертвого моря, без радио и телевизора.