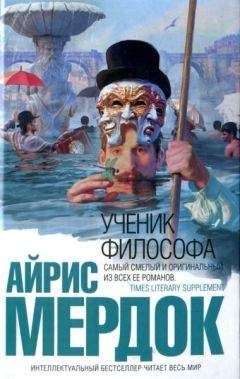Хэтти неотрывно смотрела на него, глубоко дыша. Потом, убрав руки со стола, откинулась назад. Она нетерпеливо ответила:
— Это глупый аргумент. Конечно, я должна повидаться с ней, я поеду к ней, она меня ждет. Если она действительно чувствует то, что вы сказали, а я этому совершенно не верю, я пойму и, конечно, смирюсь. Но вот так уехать, как мы вчера, было ужасно, так нельзя делать. Вы нас все время запугивали и обвиняли. Вы не знаете Перл. Я ничему плохому о ней не поверю.
Затем Хэтти встала.
— Сядь, пожалуйста, пожалуйста, Хэтти, сядь, подожди минуту.
Хэтти снова села. Она поняла, что проголодалась. Вчера вечером она ничего не ела — хотела только лечь в постель и если не уснуть мертвым сном, то хотя бы погрузиться в забытье, которого так жаждала когда-то в школе. Она удивлялась самой себе, твердому, почти грубому тону, манере, в которой только что разговаривала с Джоном Робертом. Но она твердо знала, что ей нужно делать, и отчаянно жаждала вернуться к Перл.
И тогда Джон Роберт решил приоткрыть свою тайну. Он хотел только намекнуть на нее, но не раскрыть. Он знал, что даже это ошибка и, вероятно, неправильно с точки зрения морали. Но теперь, глядя на Хэтти, сидящую напротив, не мог не сделать следующего шага ей навстречу. Особенно после их своеобразного, волнующего, ужасного, напряженного противостояния. Это было исполнение мечты, шанс, возможность. «Может быть, она уже сама почти догадалась, — подумал он, — кроме того, что это значит? Это ведь все равно что-то неопределенное. Я просто скажу что-нибудь, обязательно нужно что-то сказать. Если она увидится с Перл, одному богу известно, каких кошмаров та может ей наговорить. Это еще один довод в пользу того, чтобы хотя бы обычными словами выразить, как я к ней привязан. Ведь Перл узнала, значит, можно высказать вслух, ведь это уже даже не тайна. Это обязательно нужно сделать, и притом прямо сейчас». Хэтти в очередной раз небрежно упомянула, как само собой разумеющееся, что дед о ней не заботится, воспринимает ее только как обузу. Джон Роберт чувствовал, что теперь наконец может и, следовательно, должен прокомментировать это убеждение.
— Хэтти, милая Хэтти… я делал как лучше. То есть я хотел как лучше, хотел поступить правильно, а это было непросто.
В его голосе вдруг послышались странные, скулящие, жалостные нотки.
Хэтти тут же поняла: что-то изменилось, сейчас он начнет говорить о чувствах. Она сказала уже мягче:
— Конечно, вы хотели как лучше, желали мне добра.
— О Хэтти, если бы ты только знала…
— Что именно?
— Как я жаждал тебя, желал тебя. Ты думаешь, я о тебе не забочусь, но это неправда, совсем наоборот.
Хэтти уставилась на огромное лицо философа, которое вдруг показалось ей рельефной моделью чего-то другого — может быть, целой страны. Она смотрела на плоскую макушку, мясистый лоб в буграх и морщинах, очень короткие, курчавые, словно наэлектризованные, волосы, большой птичий нос, обрамленный глубокими бороздами, в которых росла серая щетина, надутый рот с влажными, выпяченными красными губами, пузырьки слюны в углах рта; яростно сверкающие прямоугольные светло-карие глаза, которые, казалось, изо всех сил пытались послать ей какой-то сигнал. Мягкие пухлые морщинки лба, изъязвленные пятнами расширенных пор, выглядели особенно трогательно. От созерцания этого лица напротив у Хэтти появлялось ощущение чего-то очень старого и очень печального. Она испугалась и исполнилась жалости. И, чтобы хоть как-то успокоить деда, сказала:
— О, не надо, не переживайте, пожалуйста…
— Я лишал себя твоего общества именно потому, что слишком к тебе привязан. Теперь я понимаю, что это была ошибка. Прав ли я был? Неужели теперь уже слишком поздно? Я думал, что покажусь тебе отвратительным, чудовищем. Я сам себе был отвратителен. Да, я боялся. И все же я должен был иметь больше храбрости, веры, уверенности в себе, я должен был узнать тебя ближе, держать при себе, воспитывать…
— Но вы были очень добры, — ответила Хэтти. — Не вините себя, вы всегда были так заняты, у вас не было бы времени на ребенка, вы ведь не отец.
— Я лишил себя общения с тобой. Я мог бы найти время, я хотел найти время, разве я мог бы найти ему лучшее применение. Если бы я был более равнодушен к тебе, испытывал другие чувства, я мог бы… но я хотел хранить тебя, как драгоценность, и не смел приблизиться.
— Конечно, вам было бы со мной очень скучно! — сказала Хэтти, стараясь говорить небрежно.
— Ты не поняла, и это к лучшему, к лучшему…
— Пожалуйста, скажите, что вы имели в виду.
— Даже если ты содрогнешься, обратишься в бегство? Хэтти, я люблю тебя, я люблю тебя уже много лет. Ради бога, теперь, когда я тебя нашел, не оставляй меня, не уходи…
Хэтти начала понимать, что хочет сказать ей Джон Роберт, еще до того, как он произнес первые слова признания. Его дрожащий голос, жалобно произносивший страстные слова, умоляющие движения рук, пронзительный взгляд светлых глаз помогли ей понять необычайную важность происходящего, и она в самом деле содрогнулась и хотела бежать. Но теперь человек, которого она боялась и уважала, унизился до бессвязного лепета, умолял ее о внимании, как нищий о милостыне. И тогда она ощутила растерянность, пронзительную жалость к нему и странное волнение.
— Ну что ж, это ничего, — нервно произнесла Хэтти.
Она прижала руку к груди, коснувшись воротника коричневого платья, и отодвинула свой стул назад на пару дюймов.
— Нет, это не «ничего»!
Джон Роберт треснул кулаком по шаткому столику, и несколько ножей упало на пол. Джон Роберт встал, побрел, спотыкаясь, на другой конец комнаты и повернулся спиной к Хэтти, уперевшись лбом в стену.
Хэтти смотрела на него с ужасом. Она сказала робким, прерывающимся голосом:
— Пожалуйста, будьте обычным, спокойным, вы меня пугаете. Ужасней ничего быть не может. Я всегда вас уважала, доверяла вам. Будьте спокойным, как раньше…
— Я не могу быть как раньше! — взревел Розанов, и слюна вскипела у него на губах.
Он повернулся, вытирая мокрые губы тыльной стороной руки, и уставился на девушку горящими от боли глазами.
— Да, ты меня уважала. Но никогда не любила. Ты сможешь меня полюбить, это вообще возможно? Ты мне нужна, я жажду тебя. Боже, какая глупость, какое преступление — говорить с тобой об этом…
— Со мной все в порядке, — сказала Хэтти, — не беспокойтесь за меня. Я просто очень хочу, чтобы вы не были несчастны…
Она была поражена тем, как признание Джона Роберта подействовало на него самого. Она не могла осознать размаха происходящего, не знала, как лучше всего успокоить и пожалеть философа. Ей было почти невыносимо смотреть на него, хладнокровного, солидного, отстраненного, хранителя ее детства, внезапно преобразившегося в жалкого, брызгающего слюной, стонущего безумца. В то же время она ощущала его присутствие, соседство с ней в этой комнате, словно была заперта в комнате с большим диким зверем.
Джон Роберт опять встал лицом к стене, чуть сутулясь, свесив руки и набычившись. Он сказал:
— Она права: мне нельзя быть здесь с тобой наедине.
— Кто она?
— Перл. Она меня дразнила этим, смеялась.
— О… нет…
— Теперь узнают, она расскажет, все узнают.
— Нет, нет, нет…
— Хэтти, не покидай меня. Только сегодня останься со мной, побудем вместе спокойно. Прости, что я вел себя как животное. Но я рад, что я тебя люблю и что сказал тебе об этом, правда. Мне очень больно, но я счастлив. Не уходи в Слиппер-хаус, не оставляй меня одного, я просто сойду с ума, если ты уйдешь сразу после… всего этого. Подари мне только один день, только сегодня, прошу тебя.
— Так вы поэтому хотели меня выдать за Тома Маккефри? — спросила Хэтти.
— Да.
— Я останусь с вами, — сказала она.
В пятницу Том не знал куда себя девать. Вернуться в Лондон, к обычной жизни, было невозможно. Визит к Диане теперь казался вылазкой в кошмарную темную пещеру, откуда открывалось неисчислимое количество выходов в ад. Том не переставая гадал, не придушил ли Джордж Диану втихомолку после его ухода. Он представлял себе маленькое тело в бахромчатой юбке и трогательных ботиночках, лежащее на шезлонге, и Джорджа, глядящего на это с дикой, безумной лучистой улыбкой. Плечи у Тома болели там, где его схватил Джордж. Том чувствовал себя так, словно его пинком спустили с лестницы. Его воображение было населено мерзкими грязными призраками, изгажено ими. Опять вернулось видение Хэтти-ведьмы, злобной чаровницы, искусительницы, дьявольской манящей куклы, блудницы, сгубившей его невинность и свободу. Он воображал ее в виде медсестры со зловещей улыбкой на губах, со шприцем, который она вот-вот вонзит ему в руку, чтобы лишить рассудка. (Может, это ему ночью снилось?) Он встряхнулся, потряс головой, словно физически вытряхивая гадкие видения, чтобы они вылетели, как затычки из ушей. Он подумал с яростной решимостью: «Я должен увидеться с Хэтти, должен, тогда все это прекратится. В любом случае, если я с ней увижусь, что-то изменится, что-то прояснится, я что-нибудь спрошу, задам ей какой-нибудь вопрос, не знаю какой. Но я подожду до темноты, — сказал он себе, — Если на улице попадется Розанов или Джордж, придется поднять крик». Утром ему страшно захотелось выйти купить газету — посмотреть, не убита ли Диана, но он запретил себе это делать и все мысли на эту тему твердо решил считать пустыми и вздорными. Весь день он провел, питаясь этими призраками.