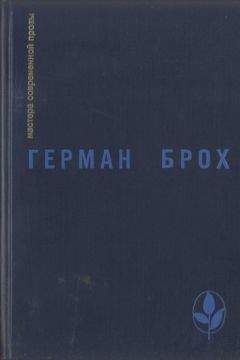Не забрезжит ли вновь купол небес под сводами сна, неся в по-ночному искрящейся сердцевине созвездье креста, несомое лучистым щитом? Не засияет ли он снова подлинным блеском новосотворенного творящего деянья? Он возвестил о себе ожиданьем, был уже здесь ожиданьем, но еще не явился. Ибо над молчащими сияющими голосами сна чудесным образом распростерлось еще более глубокое безмолвие, и это безмолвие стало ожиданьем, было ожиданьем, безмолвным и чудесным в себе самом, ожиданьем, которое, словно вторая, более щедрая форма, легло поверх все так же недвижно мерцающей лучистой формы нагой судьбы, словно иное, второе освещение света, как будто ожиданье было уже прибытком богатства, хотя можно и даже должно было ожидать еще большего обогащенья, еще большего сиянья, а быть может, даже и второй, еще большей бесконечности, дабы ей снова воссияло божественное, во веки веков упраздняя беду. То было ожиданье без направления, без направления, как сама лучистость, и все же оно было направлено на самого ожидающего, направлено на сновидца, словно побуждая его последним усилием, последним усилием творенья поставить себя вне сна, вне судьбы, вне случая, вне формы, вне себя самого. Откуда шло это полное ожидания побужденье? Из какого извне, из какой безнаправленности оно, само безнаправленная целокупность, опустилось в целокупность сводов сна? Обладая силою сновиденья, оно не было зовом и ниоткуда не шло, ниоткуда его не достигало; а просто вдруг наполнило его, как наполняло сон, сияньем опустившись в сиянье, прозрачностью в прозрачность, это побуждение не звало сон вернуться к истине, не звало разнонаправленное многообразье к однозначности направления, оно вообще было не возвратом, не утратой творенья, не новым ограниченьем, нет, хотя, преодолевая сон и побуждая к преодоленью, оно пребывало внутри сна и повелевало внутри сна пребывать, было побужденьем в сновидческом знании обрести новое знание; оно сквозило в безмолвно-лучистом воспоминании, вовеки не виденное, но все же узнанное, все же понятое в сновидческом своем веленье. И он, объятый сном и объемля в себе сон, сплетя свою прозрачность с прозрачностью сна, он поднимался для вожделенного и неимоверного божественного усилия, и, окончательно взрывая пределы сна, окончательно взрывая всякий образ и всякое слово, окончательно взрывая воспоминанье, сон вместе с ним перерастал сам себя; мысль его стала больше формы мысли и, ставши таковой, стала знаньем о сфере более великой, чем судьба, более великой, чем случай, она стала иной, второй бесконечностью, объяв собою первую и сама ею объята, стала законом, по коему растет кристалл, законом музыки, выраженным в кристалле, выраженным в музыке и все же взнесенным превыше обоих, выражающим музыку кристалла; она была иным, вторым воспоминаньем, беспамятным воспоминаньем о мирах и зонах, обо всем прожитом и пережитом, что, захлестнутое мирами, захлестнутое формами миров, обрело новую, вторую форму, и то был иной, второй язык человека, предназначенный вечности, пусть сам еще и не вечность, невозвратное в возвращенном; и под вновь распахнувшимся куполом небес вновь кружились звезды, кружились по закону своего бытия, в непреходящности своей преходящности, неподвластные случаю как вечно длящееся чудо, как хладнобессмертная музыка ночи, слегка тронутая нежно-суровым дыханьем луны, без движения уходящая вдаль, без движенья пронизанная Млечным Путем, полное звуков серебристое пространство, объятое сверхнепостижностью, но и объемлющее сверхнепостижность всякой человеческой жизни, возвращенье, новое возвращенье сна —
— О родина, о возвращенье! О возвращенье того, кому уж более незачем быть гостем! Невозвратна улыбка, в коей мы некогда покоились, невозвратно ласково-улыбчивое объятье, целокупность пробужденья и еще не пробужденности, уже просветлевшая и все еще темная, невозвратна нежность, в которую мы зарывались лицом, чтобы увиденное не стало случайностью; о, все было наше, ибо все было вновь нам даровано, ничто для нас не было случайным, ничто не было преходящим, ибо непреходяще-бездлительным было время миров, о время миров, в коем для немого взора ребенка не было ничего немого, и все было новым твореньем —
— О возвращенье, о музыка внутри и вовне! Погруженная в нас, она осталась нам как знанье былого, погруженная в нас, она вознесла нас в свое высшее бытие, а мы, погруженные в нее, возвысившись над собою, мы обретаем ее по ту сторону случая; о музыка внутри и вовне! Ведь все то, что сокрыто в нашем Я, — выше нас, бессмертно для нас и неподвластно случаю, созвучно слову сфер, но то, чего мы в себе не несем, есть для нас случай и остается случаем, оно смертно для нас и никогда не возвысится над нами, никогда нас не сможет объять —
— О возвращенье! Все объемлет ребенок, все для него музыка, все бессмертно, во всем — величье целокупности, которая своею улыбкой от веку охватывает и переполняет ребенка, ибо он может найти убежище в ее объятьях, глаза в глаза, — о вселенная, о невозвратная, ибо невозвратно все средь пустого роста! И если мы даже будем расти и расти, так что наши руки разветвятся, как реки, а наше тело раскинется по землям и океанам до самых пределов мира, и луна засверкает у нас в волосах, и мы сами станем пространством, станем звездным куполом ночи, сверкающим сводом сна, беспредельным, без конца и края, сплошным сияньем, мы все равно останемся вне самих себя, останемся отверженными, и ни ночь, ни утро не укроют нас, ибо на нас заклятье, нельзя нам бежать и некуда бежать, нет в нас верности самим себе, ибо ничего мы не привлекли к своему сердцу —
— О возвращенье! Возвращенье в сверхнепостижность, что будет нам дарована, когда мы вновь станем способны искать в ней убежище, о сверхнепостижность, которую мы ищем даже во сне, ибо и сама судьба, наша судьба, сновидчески постижима для нас в сновиденье, сон преходящ, преходяща судьба, и тот и другая случайны, так что мы — под заклятьем даже во сне, под заклятием преходящности, под заклятьем случая, под заклятьем смерти — стремимся убежать от сна и все же страшимся бегства, трепещем его, робея перед недостижимостью; о, смертно для нас случайное, коего мы не объемлем и коим сами не объяты, в нем нам внятна лишь смерть; поистине лишь в случайности является нам смерть, мы же, не объемля самих себя, сами собою не объяты, неся в себе смерть, только сопровождаемы ею, она рядом с нами как случай —
— О возвращенье! Возвращенье в божественное, возвращенье в человеческое! Смертен для нас тот ближний, судьбу которого мы не взяли на себя, которому не было от нас помощи, нелюбимый человек, которого мы не объемлем собою и потому лишаем возможности объять нас, объять своим бытием, о, небожествен он для нас, с ним небожественны и мы, оба случайны настолько, что нам уже трудно понять: не умер ли уже давным-давно или еще не рожден тот, кто живым предстает перед нами, проходит мимо, ковыляет прочь, исчезая за углом, такое же творенье судьбы, как и все, как мы сами —
— О возвращенье! О Плотия! —
— О возвращенье! Невозвратный путь на родину; мы смертны вместе со смертным, смертны для самих себя, мы, не взявшие на себя ничьей судьбы и потому самих себя превратившие в случай; неотрывно прикованы наши дела, и бытие, и познанье к голой форме судьбы, мы смертны посреди бессмертья, смертны средь музыки звезд, смертны, ибо виновны, заблудшие в дебрях голосов, окруженные немо бушующим светом неразличимости, обреченные на смерть сном, обреченные на смерть растущей жестокостью, на смерть, в которой нет уже ничего от бессмертья —
— О возвращенье! Покой и вслушиванье в бескрайнем просторе сатурновых сфер, в сатурновом ландшафте вселенной и души, в золотом и родном покое вечноземного, вслушиванье, неуязвимое для Януса, хотя это — двоякое вслушиванье, обращенное к небу и к низу, вслушивающееся в нареченные Сатурном имена вещей в высях небес и равно в глубинах земли, двояко связанный двойной покой, неуязвимый для смертной жестокости распри и войны, неуязвимый для уничтоженья, хотя вслушиванье — это одновременно забвенье, забвенье имен, забвенье, даруемое их родной близости —
— О возвращенье! Кому дано вернуться на родину, тот возвращается в творенье, возвращается туда, где за текучей гранью начала и конца, по ту сторону всего постижимого и непостижного он предугадывает последнее установленье, он бежит неразличимости, в коей добро и зло застыли фатально-пустою формой, он прячет свое лицо в сверхнепостижно знакомом, чей сурово-мягкий глас, возвещая судьбу и судьбе предшествуя, произносит приговор, снова высвобождая бытие из формы и отделяя правое от неправого —
— О возвращенье! О отрешенье от страданий в страданье, чудо бессмертия! О, нам дано коснуться его, нам дано, быть может, лишь на миг, не дольше одного удара сердца, вдруг открывшегося чуду, и все же навечно догадкой постичь непостижное, когда наша судьба, объемлющая и объемлемая, берет на себя другую судьбу, вырастая и ширясь в самопожертвовании, обретая прибежище и сама укрывая другую судьбу, когда вместе с чудом иного, второго Я, которое мы несем сквозь пожары, нам даруется новое детство, преображенное и уже принадлежащее отцу, познающее и познанное познанье, случай, ставший чудом, ибо он объял все познанье и все бытие, преодоленье судьбы, еще нет, но и уже, о чудо, о эта вновь пробудившаяся музыка внутри и вовне, открытый лик сфер, о любовь —