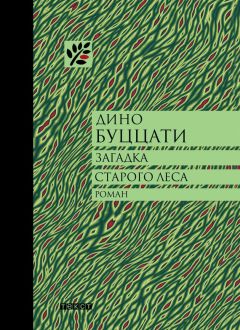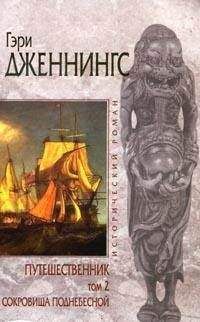Надо сказать, что в этих обстоятельствах и Рилька не пал духом. Единственное, что его волнует, — чтобы до светопреставления я успел вынести свое суждение о его стихах. Говорит, что если оценка будет благожелательной, то он умрет счастливым.
И вот я один в голубом сумраке палаты взываю: «Приди, благословенный астероид, не сбейся с пути, низвергнись на нас всей своей сокрушительной силой, разнеси вдребезги эту злосчастную планету».
18 июня 1968
Сегодня утром, часов в семь, меня разбудил сам профессор Кольтани.
— Итак, — сказал он, с довольным видом потирая руки, — итак, завтра утром.
— Что завтра утром?
— Как «что»? Операция, небольшое, чисто формальное хирургическое вмешательство…
— Но ведь доктор Рилька сказал, что теперь…
— Что?..
Я рассказал ему о сообщении Нессаима. Кольтани рассмеялся. Он тоже присутствовал при разговоре. Ничего подобного астроном из Ганы не говорил, наоборот, он еще раз подтвердил компетентное мнение всех ученых, достойных этого звания. А Рилька, по-видимому, просто прибегнул к такой невинной уловке, чтобы заставить меня прочесть его стихи.
Профессора эта история явно позабавила. Но вдруг он нахмурился:
— Вы-то, дорогой мой, скоро выйдете отсюда: вам еще жить да жить. А вот я действительно был бы счастлив, если бы Икар…
— Вы? А что с вами?
— Я еще работаю… и буду работать, пока силы есть… это единственное, что меня отвлекает… Но уж недолго осталось, дорогой друг, перед вами обреченный… — Он выпрямился, снова появились властный тон и бесстрашная улыбка. — Ладно, не будем о грустном. Вам беспокоиться нечего, анализы превосходные… Итак, до завтра…
19 июня 1968
Два часа ночи, в клинике полная тишина. Через пять часов меня положат на каталку и повезут в операционную. Может, это последняя ночь, когда я еще в целости, сохранности и здравом уме. Через шесть-семь часов я, возможно, вообще перестану существовать или сделаюсь ни на что не годным обрубком, а хуже всего — останусь таким, как был: хирурги разрежут меня и тут же зашьют, поскольку помочь уже ничем нельзя. Астероид Икар так и не появился, этот астероид — всего лишь глупая красивая сказка, из тех, что на мгновенье морочат голову, а потом улетучатся, как будто их и не было; тело пролетает сейчас над этой клиникой с головокружительной скоростью и ничего не знает обо мне, даже не догадывается, как я его жду… и как ждет его профессор Кольтани… Желанный астероид прошел совсем близко от Земли и теперь удаляется от нас, погружается в бездны Вселенной, а через девятнадцать лет, когда о нем вновь заговорят, я уже стану прахом, и даже имя мое на могильной плите почти сотрется…
Видно, доставили какого-то тяжелого больного. Из-за двойной двери до меня доносится торопливое шарканье ног, то там, то здесь раздаются приглушенные женские голоса. Вдалеке звенит колокольчик. Но что-то не слышно, чтобы подъехала машина.
Странно. Может быть, кого-то решили срочно оперировать? Шаги и голоса в коридоре становятся громче. Там уже чуть ли не кричат. Словно вся клиника проснулась.
Кто-то без стука открывает дверь. Это доктор Рилька, запыхавшийся, без халата. Таким я его еще не видел. Он подбегает к кровати и протягивает свернутые в трубку листы бумаги.
— Прочтите, умоляю, прочтите хотя бы одно-два… остаются считанные минуты…
— Так это правда? — спрашиваю я, привстав, и сразу чувствую себя молодым, здоровым, полным сил. — Так это правда?
— Ну конечно! — восклицает он и кидается к окну поднимать жалюзи. — Не теряйте времени, прошу вас, прочтите хотя бы одно!
А на улице совсем светло. Нет, это не луна. В два часа ночи все залито ослепительным бело-голубым светом, похожим на пламя электросварки. Суматоха, гул, страшный гвалт по всему городу… Отдельные крики сливаются в тысячеголосый вопль ужаса (или радости?). И к нему примешивается немыслимый, нечеловеческий рев; с хрипом, и свистом, и грохотом он нарастает, охватывает все небо. А я смеюсь от счастья и как безумный разбрасываю по палате листки со стихами. А доктор Рилька, которому жить осталось всего несколько секунд, бегает по палате, подбирая листки, и отчаянно взывает:
— О-о! Что же вы делаете?!
ХВОРАЯ БОЛЬНИЦА
Когда я приехал в клинику «Офелия» — назавтра мне должны были вырезать желчный пузырь, — меня проводили в кабинет дежурного врача. Это был мужчина лет сорока, худой и бледный. Он встал с кресла и вынул изо рта градусник.
— Извините, у меня почти тридцать девять.
— Что, грипп?
— Да кто его знает…
Несмотря на температуру, он привел меня в палату и посоветовал немедленно лечь. Потом вошла молоденькая, хорошенькая медсестра, чтобы сделать мне болеутоляющий укол. Она слегка прихрамывала.
— Ох, если б вы знали, синьор, — сказала она, виновато улыбаясь, — в эту сырую погоду у меня так разыгрывается радикулит!..
Немного погодя явился профессор Трицци, который завтра должен был меня оперировать. Молодой, энергичный, обаятельный.
— Вам, синьор, честно говоря, просто повезло. Вряд ли кто лучше меня разбирается в болезнях желчного пузыря. Уж вы мне поверьте! — Он оглушительно расхохотался. — Завтра утром я займусь вами. А послезавтра другие займутся мной. Понимаете? Моему желчному пузырю тоже капут! — И он сделал такое движение, как будто что-то выбрасывал в помойку. — Но у меня дело обстоит хуже, гораздо хуже. В вашем случае мы хотя бы знаем, как и что. А вот у меня… У меня картина, как бы вам сказать?.. Очень и очень неясная. Разрезать недолго, а вот что там найдешь!.. — И снова неудержимый хохот. — Так говаривал мой учитель Рипеллини, и был прав, несмотря на все научные достижения. — Он кладет руку себе на живот, с правой стороны, нажимает, и на лице у него появляется страдальческая гримаса. — Ох-хо-хо… боюсь, что… извините, я сяду… Сейчас пройдет… схватит, а потом отпустит… Нет-нет, ради бога, не волнуйтесь… Приступы у меня бывают только во второй половине дня, утром — никогда, это исключено…
Мы приятно побеседовали, а прощаясь, он сказал:
— Знаете, наш босс, директор клиники, очень хотел зайти с вами поздороваться, он мне об этом сам сказал. Он просит его извинить. К сожалению, утром у него случился… ну, не то чтобы инфаркт, но вы же понимаете, когда плохо с сердцем, главное — покой…
Потом пришла старшая сестра из ночной смены, и я заметил, что она все время хватается за правую щеку.
— Что, зубы болят? — спрашиваю из вежливости.
— И не говорите. Не дай вам бог подхватить воспаление тройничного нерва. С ума можно сойти, ей-богу, с ума сойти… Даже хорошо, что я в ночной смене, сегодня мне все равно не заснуть. — Она через силу улыбнулась.
Я ошарашено уставился на нее.
— Извините, синьорина, у вас, в клинике «Офелия», что, весь персонал болен?
Она удивленно вскидывает голову.
— А как же! Недаром ведь наша клиника самая знаменитая в Европе.
— Не понимаю…
— Да все очень просто! Психотерапия, понимаете? У нас тут самый передовой из всех известных психотерапевтических центров. Скажите, вы когда-нибудь раньше лежали в больнице?
— По правде говоря, нет.
— Вот поэтому вы и не понимаете. Что самое неприятное в больнице? Думаете, болезнь? Нет. В больнице самое неприятное то, что приходится смотреть на здоровых людей. Настает вечер, вы прикованы к постели, а врачи, сестры, санитары, словом, весь персонал разлетается по городу — кто домой, кто в гости, кто в ресторан, кто в театр или кино, кто на свидание; это действует угнетающе — уверяю вас, сразу чувствуешь себя инвалидом — и сказывается на течении болезни. А вот если умирающий видит вокруг одних полупокойников, он чувствует себя королем. Вот почему мы здесь творим чудеса. Кстати, мы не пускаем к больным родственников и знакомых, чтобы ограничить их от неприятных ощущений. Ну и, наконец, наши врачи, хирурги, анестезиологи, сестры и так далее все до одного серьезно больны. По сравнению с ними наши пациенты чувствуют себя сильными и здоровыми. И не только чувствуют себя такими — они действительно выздоравливают. Иногда даже без помощи лекарств. А ведь когда ложились к нам, многие были уже одной ногой в могиле.
ПЕС-ИСКУССТВОВЕД
Однажды Ренато Кардаццо сказал мне:
— Бывает, прихожу к себе в галерею и вижу, что во дворе кругом наставлены картины. Какой-нибудь непризнанный художник желает привлечь к себе внимание. Конечно, это дилетанты. Я их узнаю по запаху.
— Разве от дилетантов пахнет как-нибудь особенно?
— Не то слово! От них воняет. То есть не от них, а от картин. Словно неумело положенные краски взбунтовались и стали издавать неприятный запах.
Эта теория показалась мне забавной, однако весьма спорной. Признаюсь, даже на выставках самой отвратительной мазни я никакой вони не чувствовал. Но гипотеза меня захватила. И я решил провести ряд экспериментов. Я рассуждал так: пусть у Ренато Кардаццо исключительно тонкое обоняние, все равно он только человек; а вот охотничий пес с превосходным нюхом справится с этим делом еще лучше.