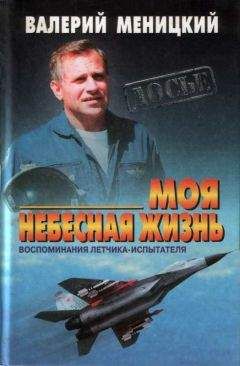Важные-то важные, но ведь прилетели же по его зову.
Все, конечно, было замечательно, однако было в этой по общей оценке удавшейся встрече с дружеской выпивкой (даже Т. Т. пригубил, хотя ему категорически запрещено), воспоминаниями, взаимными признаниями и сожалениями об упущенном, саморекламой и самоумалением, в общем, как обычно бывает на таких встречах, да, было в ней нечто смущающее и настораживающее. И это нечто крылось именно в фигуре С. В.
Чего он хотел, чего добивался, собирая их всех около дряхлого, усталого, больного, тяжело дышащего человека, их бывшего учителя, на короткий миг вынырнувшего из уже относящего его куда-то в неизвестность потока жизни? Что означала эта его победная улыбка?
Ну да, он рядом с Т. Т., тогда как они все пришлые, хотя и многим обязанные. Очень многим. Он как бы сливался, совмещался отчасти с Т. Т., который частенько поворачивался к нему, как бы спрашивая, то ли и так ли он делает, не исказил ли чью-то фамилию, не ошибся ли в имени, в общем, все ли происходит правильно.
И надо сказать, задевало — ведь он, Т. Т., учитель, всегда казался им если и не идеалом, то все равно недосягаемым образцом, человеком, на которого они все, кто бы чего ни достиг, невольно оглядывались, чьи интонации и взгляды впитали в свой душевный строй, даже если не всё принимали и с чем-то (со многим) не соглашались или опровергали. Как бы там ни было, Т. Т. все равно оставался чем-то особенным, как бы и не совсем человеком (при всех своих человеческих свойствах и даже слабостях). Все это чувствовали. И вот невольно С. В. оказывался здесь самым значительным лицом, что многим не нравилось (по какому праву?). Ну, помогает он Т. Т., и отлично, так сложилось, а могло быть иначе. Мог бы и каждый так, а если и не каждый, то некоторые точно могли бы. Ничего в этом такого.
Глядя на фотографии с той встречи, многие испытывали почему-то тягостное ощущение, а потом, вспоминая тот день, убеждались в этом ощущении еще больше. Настороженность настороженностью, связанная с С. В., — это одно, а было и еще нечто, труднообъяснимое и тоже неотрывное от С. В., но отчасти, и даже в большей степени, от Т. Т. Старый он был на фотографии, и вид какой-то бомжеватый, не такой, как когда-то, во времена их юности, и запах был (всплывал) старческий, будто архивной сырой пылью или подвалом жилого дома попахивало. Чужой дом, все чужое, хорошо хоть не казенное…
Печальный такой вид, словно человек одной ногой уже не здесь. Живой, но как бы уже и не совсем. Одной ногой где-то… И у каждого чувство если не вины, то чего-то очень горького. Никто ведь не виноват, что он старый (все стареют) и неухоженный (со многими бывает), все подходят к этому рубежу (а иные и не доходят) с большими или меньшими потерями, но все равно неизбежно, что ж делать?.. И им, и каждому то же предстоит, может, еще и хуже. Никому не уклониться. У Т. Т. хоть ученики, постарше, помладше, разных лет (есть и совсем молодые, вроде С. В.), и все его помнят, все признательны ему… Многим ли из них такое суждено?
С. В. рядом на фотографии (победно улыбается). Ну да, удалось ему все устроить. Что говорить, молодец, конечно, что не оставляет Т. Т. (зачтется ему), только стоит ли уж так гордиться?
Впрочем, может, он чему-то другому улыбается? Просто от молодости, от силы (все впереди)? Так, да?
А только все равно гордиться не надо! Не надо гордиться!..
Дождь
Кажется, Шопенгауэр сказал, что тот не философ, в ком нет ощущения призрачности мира. В таком случае философия — не что иное, как попытка извлечь мир из этой призрачности. Из застилающего явления и вещи белесо-серого тумана, из ласковой майи, стелющейся перед нашими земными глазами, сквозь которые смотрят еще другие глаза, тоже наши, а может, и не наши, и те глаза тоже видят и не видят, и так неведомо, сколько таких глаз, но печаль-то как раз в том, что мир все равно ускользает — не достичь нам его…
А может, мир на самом деле прост как дважды два — настолько прост, что попытки приблизиться к нему и тем более проникнуть в его суть заведомо обречены на провал, — ни сути, ни глубины, ни сложности, а просто он — есть, а все, что мелькает перед нашими глазами, это все от воспаленного воображения, от ложных интенций познать и преобразить… Так что шут с ними, и с майей, и с Шопенгауэром, и со всей этой мудреностью, которую производит праздный и гордый ум человеческий, не знающий, куда приткнуться…
Да, мир прост, как рыба в чешуе, и этим замечателен. Мир — эвклидов, что бы ни говорили. И все равно два (простое) пишем, три (сложное) в уме…
Голубое небо, янтарные стволы сосен, сероватое море с желтоватыми кудельками пены возле берега, дюны, беспечная радость детворы, кубарем катящаяся по чистому зыбкому песку, вдоль понастроенных в нем каналов, средневековых замков, норок и прочего. Быстро исчезающие вмятинки от детских ступней. И солнце совсем не по-северному жаркое, море теплое — разве это Балтика?
Впрочем, дымка в небе, облекавшая солнце вот уже две недели подряд, неожиданно сгущается в облачко, потом в тучку, темнеет, клочковато расползается по небу, и вот — мелкий, прохладный, типичный балтийский дождик. Пора. Струйки сбегают по коже, горячей от долгого солнца. Хорошо.
Однако и радость быстро сменяется грустью, все вокруг наливается влажной тяжестью, брюзгнет, словно ощутив бремя существования. Серая плотная пелена дождя за окном.
С этого все начинается. С пелены.
В комнату стучат, на пороге директриса пансионата, полная немолодая дама с мелкозавитыми серебристыми волосами, похоже на парик (не исключено). Такой же мелкозавитой у нее и черный пуделек Джонни, любимец детворы, с ним она обычно прогуливается во дворе. На этот раз пуделька нет, напрасно дети выглядывают за дверь, надеясь наброситься на него с неустанной нежностью. Крупным женским телом директриса перегораживает им проход: так, всем плотно закрыть двери и окна и никуда не выходить до особого распоряжения (звучит грозно). От кого должно исходить это «особое распоряжение» — от нее ли или от кого другого, остается не ясным. Как, впрочем, и все прочее. Неопределенное пожатие полных, слегка оголенных плеч: ничего не известно (так ей и поверили), но надо все срочно закупорить и никуда не отлучаться.
Как все быстро меняется в этом мире!
Только что в комнату сквозь настежь распахнутое окно вливались свежий морской воздух, смолистый запах сосен, и вдруг — духота. Человек без воздуха — как рыба без воды, глаза выпучены, ноздри широко раздуваются, губы рассохлись. Они сидят на кроватях, напряженно прислушиваясь, словно там, за окном, в непрерывном шелесте дождя можно что-то расслышать, понять, что происходит. Почему-то кажется, что возникшая угроза связана именно с ним, с дождем. Лиловатый оттенок, свинцовость, придавившие землю тучи — хмурый отчужденный лик природы. Еще день, а темно — словно вечер. Наверняка дело в нем, в дожде. Хотя, может, вовсе и не дождь, а ветер (смутная догадка не дает покоя).
Как отделить ветер от дождя, дождь от неба, небо от воздуха?
Пасмурный (чем-то даже похожий на этот) день в Пушкине под Питером, первое мая, дождик накрапывает, то усиливаясь, то замирая, они стоят неподалеку от Екатерининского дворца, прикрывшись зонтами и капюшонами курток, а под знаменитой аркой нескончаемой колонной вышагивают на демонстрацию пионеры, в белых рубашонках и блузках, с алыми полыхающими галстуками, с разноцветными воздушными шарами, барабанщики с барабанами… Зябко смотреть.
А потом всех, кто попал под тот первомайский дождик, вызывают на медицинское обследование.
Черная быль.
Неужели тот дождь их все-таки достал?
Странная тишина в пансионате, словно никого нет, только шум дождя за окном, барабанит по стеклу, точно пытаясь проникнуть внутрь. В серой пелене — черный угрюмый контур. С почти мистическим ужасом они глядят туда, во все более сгущающиеся сумерки, как будто дождь (главная угроза) или что-то там невидимое, но от этого еще более грозное действительно ищет щели, хочет просочиться к ним… Занавески задернуты, но и через них, мерещится, кто-то тяжко дышит там, дует, плюет… Детвора жмется на краю кровати, дальней от окна. Комната неожиданно маленькая и узкая, все близко, рядом: стены, окна (два) — не отстраниться, не спрятаться… Маленькая начинает хныкать — ей душно и надоело, старшая более терпелива, но и взрослым не по себе (у жены разболелась голова) — ни информации, ничего…
Хоть бы какая-то определенность!..
Время замедляется, вытягивается в длинную толстую кишку, сквозь которую их медленно тащит, пропихивает чуждая неведомая сила. Так, вероятно, мог чувствовать себя Иона во чреве кита, вероятно…
Страшно представить себя во чреве.
В дверь заглядывает сосед, губы его двигаются, но звуков почему-то не слышно. Потом вдруг прорезается, доходит: не передавали ли что-нибудь по радио? Это сосед спрашивает. А у них и радио-то нет. Зачем им радио? Взгляды устремлены на соседа, у того под окном малиновый «жигуленок», с которым тот каждый день возится, что-то подкручивая, подмазывая и всяческим образом пестуя. Его заботливость — предмет постоянных насмешек, но теперь именно «жигуленок» становится объектом тайных вожделений — ведь ежели что, то на нем только и можно выбраться (если можно). Если, конечно, сосед не откажет. Есть ведь и другие претенденты…