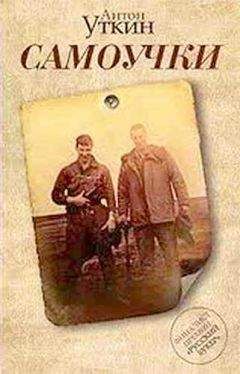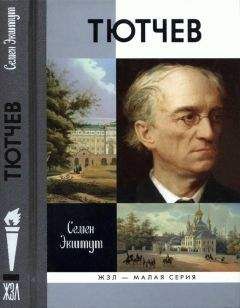В конце концов Павел улучил мгновение и попытался сунуть ей в сумку деньги, и немало.
Она слабо отбивалась, по — видимому опасаясь его обидеть, глядела на него виновато, отрицательно мотала головой и медленно пятилась, и вдруг слезы брызнули из ее глаз, как будто она взглянула на себя сверху и только сейчас осознала крайность своего положения… Денег она так и не взяла и побрела прочь, продолжая плакать и унося гнилую картошку.
Он стоял посреди майдана как изваяние, мешая движению зевак и покупателей. Кто — то его пихал, кто — то бранился, а он недоуменно озирался, словно видел впервые и базарную сутолоку, и дома вокруг, и самих людей. В кармане у него требовательно блеял радиотелефон, и Павел так же удивленно, с тем же пристальным изумлением прислушивался к этим звукам и заглядывал в собственный карман глазами, выражавшими полнейшую растерянность, как от приступа внезапной болезни. А ведь он чувствовал в себе потребность и, главное, способность положить к ногам этой женщины не только немощный казначейский билет, но вообще всю картошку и все, что ни продавалось на этом торжище за деньги.
Быть может, именно тогда его впервые посетило тревожное предчувствие, рождающее сомнение в своих силах: насколько огромен мир, который ему вздумалось походя отремонтировать, насколько гармоничен, соразмерен и равен сам себе во всех своих мельчайших частицах, которые просвещенному взору способны показаться досадными недоразумениями.
Но недруг, а возможно, недуг оказывается таким вездесущим, таким ежедневным, что поневоле напрашивается мысль: добродетель — скорее не поступок, а образ жизни.
— Заедем на склад, а потом вернемся, — предложил Паша и тем прервал мои размышления. — Ничего — ничего, — имел обыкновение приговаривать он, когда неожиданные обстоятельства поселяли смятение в его сознании, не унавоженном софизмами утонченной культуры, — сознании неухоженном, самодовлеющем, как уголок дикой природы.
Складом служил ангар какого — то монтажного управления, в районе Филевской поймы. В этом месте берег реки навечно завален горами песка и щебенки, там дремлют на приколе унылые ржавые баржи, а над водой нависают краны, отражаясь в наползающих волнах.
На складе заправлял неразговорчивый армянин. Щеки его покрывала двухдневная щетина. Коробки с таблетками стояли друг на друге на деревянных поддонах, расходившихся в безбрежность ангара.
— Это все лекарства? — спросил я, восхищенный размахом торговли.
— Лекарства, — ответил Паша рассеянно, а армянин посмотрел на меня исподлобья в первый раз за все то время, что мы провели в ангаре. Армянин носил двубортный пиджак из какой — то красной бархатистой ткани, который сидел на нем мешковато, и белую рубашку с расстегнутой верхней пуговицей. Брюки были ему длинны и внизу собирались нанизанными на ноги складками.
— От чего тут? — Я приблизился к коробкам и попытался прочесть название.
— От жизни, — усмехнулся Паша, и они со складским принялись мудрить над какими — то бумагами. Время от времени они поочередно отрывались от своего занятия и выкрикивали в телефонную трубку свирепые ругательства неким безответным собеседникам.
Мне всегда казалось, что преуспевающие люди должны обедать в дорогих ресторанах, среди себе подобных, в окружении услужливых, вышколенных официантов, двигающихся как тени и изъясняющихся полуулыбками, но у моего Разуваева и здесь была своя точка зрения. Сложно вообразить харчевню грязнее той столовой, где в тот день мы утолили голод.
В ста пятидесяти метрах от остатков Пименова монастыря к глухой ограде завода “О” прилеплено двухэтажное желтое здание. С улицы оно прикрыто несколькими исполинскими тополями, растущими прямо из потрескавшегося асфальта. Сплошные окна, идущие по всей обшарпанной стене, казалось, лет десять не знали ни тряпки, ни губки. На всем лежала печать запустения, и внутри было еще неопрятней.
Павел взял из стопки липкий поднос и встал в короткую очередь, состоявшую из двух мужчин в рабочих блузах. За кассой, возвышаясь над аппаратом как гора, восседала толстая крупная женщина преклонных лет.
— Согласна, — радостно откликалась она на любой запрос посетителей, без разбору приветствуя и запеканку, и постные щи, и треску под маринадом.
К моему удивлению, Павла тут принимали за своего человека. Необъятная кассирша приветствовала его как хорошего знакомого. Когда очередь на раздаче истощилась, она с трудом выбралась из своей кабинки и, оглядываясь на кассу, повлекла свое грузное тело к нашему столу.
— Опять эти приходили, — зашептала она Павлу на ухо, но так, что я слышал. — К Александру Яковлевичу.
Павел нахмурился и сдвинул брови, между которыми легла складка — жесткая, как противотанковый ров.
— Зина, никто сюда не залезет, — мрачно сказал он и раздавил дном стакана забравшегося на стол таракана. — Здесь им ловить нечего.
Кассирша слушала молча и с сомнением качала головой. От нее исходил теплый запах парного молока, и я наконец понял, что напоминала ее грудь. Она была похожа на тесто для пасхального кулича — живой, самостоятельный организм.
— Компот сегодня какой? — деловито спросил Павел.
— Компот кончился, — сказала она. — Из сухофруктов был. Морс есть. Сейчас принесу.
— Проблемы? — осведомился я, когда Зина отправилась за морсом.
— Да есть одни уроды, — неохотно ответил он.
Я счел за благо его не торопить.
— Столовую хотят.
— Да зачем тебе эта столовая? — с сомнением в голосе сказал я.
— Я хочу, чтобы все здесь оставалось как есть. Что непонятного? Свекольный салатик. Чем плохо? Ватрушки венгерские. Борщик. Майами. — Он усмехнулся своей забывчивости. — Да пускай люди едят. Да и я привык. Здесь дешево, мало таких мест осталось. А я внизу склад себе сделаю. — Тут он осекся, вскинул на меня глаза и закруглился.
— А эти?
— А на этих мне… Я их уже предупреждал как — то. Больше не буду. — Глаза его вдруг помутнели, сделались студенистыми, как бывает у некоторых людей в приступе страсти. Но это была не страсть.
Клюквенный морс, который принесла Зина, на мой вкус был очень приятный. Павел оглядел пространство зала. Возможно, с похожим выражением триста лет назад царь Петр оглядывал болотистые низины к северу от Саарской мызы.
Я не стал спрашивать, какие средства для усмирения конкурентов у него имеются, было и без того ясно, что такие средства есть. Почему — то я не подумал, что у противника тоже должны быть какие — то средства.
Вечером мы снова стояли под высоченной дверью дома на Новокузнецкой улице и безрезультатно топили в оправе выпуклую кнопку звонка. Павел скривил губы и потряс злосчастным томиком стихов. Минут через пять — шесть щелкнул замок соседней двери, дверь словно охнула, вздохнула и распахнулась, выпустив спертый воздух прихожей, но несколько секунд из нее никто не выходил. Потом раздалось шарканье обуви, свободно болтающейся на ногах. Показалась немолодая женщина в зеленом незастегнутом пальто с беличьим облезлым воротником. Из — под пальто выглядывала светлая ткань байкового халата, в руке женщина несла пакет, доверху набитый мусором. Женщина обошла нас, бережно держа пакет, спустилась на несколько ступенек, но все — таки обернулась и глянула на нас.
— К Клавдии звоните? — спросила она. — Не дозвонитесь.
В глубине квартиры тонко залаяла собака, подбежала к двери и, вероятно, стала скрестись в нее передними лапами.
— Почему?
— Умерла она, — сказала женщина и оглянулась на дверь. — Приду, хороший! — сказала она громче, изменив голос.
— Как так умерла? — спросил Павел. — Когда?
Женщина немного насмешливо покосилась на Павла.
— Обыкновенно. Не знаешь, как умирают? — Она переложила ручки пакета из одной руки в другую, и на площадку вывалилась пустая консервная банка, на стенках которой виднелись мазки засохшей и почерневшей томатной пасты. Банка, подпрыгнув на ребре, затанцевала на кафельной плитке. — От зараза, — поморщилась женщина. — Недавно, — пояснила она, когда банка успокоилась и остановилась.
Такого оборота мы не ждали.
— Почему? От чего умерла?
— От старости, — предположила женщина. — Мало ли.
Собака продолжала царапаться и скулила в голос.
— Взяли бы ее прогуляться, — предложил Павел несколько успокоившись.
— А ты лапы потом помоешь, — продолжила женщина.
— Это ее книга? — спросил Павел и протянул ей книгу.
— Откуда я знаю? — сказала она, коротко взглянув на обложку. Потом посмотрела на обложку еще раз. — Она умерла, — повторила женщина со значением, подняла банку и пристроила ее поверх вылезающего мусора. — Умерла. — И, держась за перила, пошла вниз по ступеням.
Почему — то это было и странно и непостижимо. Казалось, никто вовсе не умирает. Ведь каждый день улицы заполняются людьми, и людям бывает тесно на этих улицах.