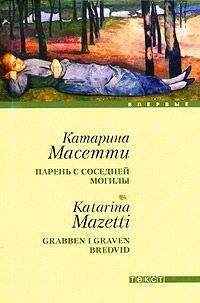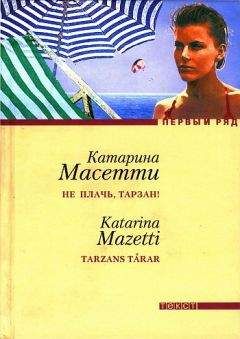«Ты только посмотри, какой он в здешнем шуме и гаме сидит тихий и необщительный», — заплетающимся языком произнес тогда я.
«Да он просто напился!» — коротко бросила Вайолет. И оказалась права: через минуту Бенгта-Йорана уже выворачивало под сиренью.
— Она даже не умеет делать тефтели, — пожаловался я. — Только книжки читает да толкует про какого-то Лакона!
Лучше уж сразу все выложить. Чтоб не ждали приглашения на кофе с вафельными трубочками, а там и на помолвку. У меня и без того положение аховое…
— Надо же, не умеет делать тефтели! — отозвалась Вайолет, довольно посмотрев на стол, украшением которого была миска величиной с лохань, полная отменных поджаристых тефтелей: — Кстати, положить тебе еще?
— Во-во, Бенни! Поматросил и бросил! — загоготал Бенгт-Йоран, снова посматривая на меня хитрым «порнушным» взглядом. — Не вздумай увязнуть в брачном болоте!
В представлении Бенгта-Йорана никто не может привязаться к женщине, которая не умеет делать тефтели… Тем более жениться на ней.
Впрочем, когда Вайолет наложила мне на тарелку гору протертой брусники, которую сама же и собирала, я чуть ли не готов был согласиться с ним.
Не выношу одиночества
Как долго тает на языке безмолвная минута
ко мне пробивается лишь пыльный луч солнца
Квартира у меня обращена во двор, окруженный трехэтажными домами. Район застраивался лет двадцать тому назад, так что деревья уже вымахали большие и заглядывают в окна, а песочницы чаще всего пустуют. Малыши, копавшиеся в них первые годы после заселения квартала, выросли и разлетелись кто куда. Жить тут остались их родители среднего возраста, а они все милые и спокойные, без неудобных для соседей привычек.
Вот почему во дворе у меня царит тишина. Окна смотрят на юг, и днем, когда сквозь деревянные жалюзи просачивается солнце, мои белые диваны раскрашиваются полосками. Иногда с лестницы доносятся шаги, но это бывает редко: я живу на верхнем этаже. Если открыть окно, начинает шелестеть в кадке баньян, который в свое время вырастил из черенка Эрьян. Впрочем, я слишком большая мерзлячка и не открываю окно надолго; я и батареи включаю на полную мощность, чтоб в квартире было тепло, не меньше двадцати трех градусов.
Мне нравится лежать в белом халате на диване и смотреть, как солнечные лучи полосатят воздушное пространство комнаты.
Время от времени я поднимаю руку, чтобы солнышко украсило полосами и ее… и слушаю тишину, нарушаемую разве что гулом холодильника да бьющейся в стекло поздней осенней мухой.
Разумеется, я понимаю, что ничего серьезного с Бенни получиться не могло.
Мечтания о нем равносильны грезам, которым предаешься в последний день отпуска. Ты потягиваешь в тени платанов прохладную «рецину», и тебе кажется, будто можно сняться с насиженного места, и переехать на юг, и наслаждаться жизнью, не загадывая далеко вперед: поступить на первую попавшуюся работу, завести белый домик с открытой верандой и пряными травами в горшках… При этом ты все время помнишь, что через пять часов будешь мокнуть на аэродроме в Арланде, а завтра — сидеть в крутящемся кресле и разгребать скопившуюся за время отсутствия работу. И что от твоего отдыха останется лишь загар, да и тот в ближайшие две недели сойдет и смоется водой в ванне.
И все же я вспоминала наши с Бенни игры и грезила о нем… Надо изыскать способ сохранить эти отношения! В конце концов, можно, уходя на работу, запирать его в гардеробе, а вечером выпускать. Как в культовом испанском фильме с Антонио Бандерасом.
Я попробовала вообразить себе фермерскую жизнь. Перед глазами не всплыло ни одной картинки.
Право, я не ожидала такого культурного шока от поездки за четыре мили, и не к эмигранту, а к шведу, примерно моему ровеснику.
С мусульманином и то было бы легче найти общий язык.
Я тут же представила себе сухощавого темноволосого мужчину с грустными глазами, которому пришлось искать у нас политического убежища и который теперь живет в приличной однокомнатной квартире, окруженный множеством книг — стихов на персидском языке. Днем он (при его университетском образовании) работает уборщиком, а вечерами встречается в прокуренных помещениях со своими политическими и поэтическими друзьями — или же мы ходим в кинотеатр «Фолькет», где можно посмотреть незабываемые черно-белые фильмы. Я осваиваю его культуру, и перевожу его стихи, и собираю на улицах пожертвования для борьбы с диктатором. Мы обедаем на красивых коврах, и все кушанья обильно сдобрены специями…
А готовить тефтели в этой жуткой Бенниной кухне, корячиться ради его двадцати четырех коров? Отмывать его запущенный душ, топить печку, если нужна горячая вода, обсуждать с ним сельскохозяйственные статьи из «Ланда»? Нет уж, увольте!
Если я и расистка, то не совсем обычная.
И все-таки я много дней в отчаянии ломала руки у телефона. То потому, что не звонит он, то потому, что не звоню сама.
Я как бы заново окунулась в подростковый возраст и, чтобы преодолеть в себе это унизительное ощущение, стала возвращаться домой поздно. Работала сверхурочно, ходила в кино, соглашалась пройтись по кабакам с неженатыми коллегами. Все утверждали, что я стала необыкновенно жизнерадостна и общительна, и я действительно вела себя так, что производила подобное впечатление.
Поскольку погода безнадежно испортилась, я больше не могла играть с солнечными полосками. А при пасмурном свете моя квартира поднимала настроение не лучше, чем приемная у зубного врача. Единственным ярким пятном в интерьере был неоновый восход, к которому плыли в раковине влюбленные — на плакате, подаренном мне в день рождения Бенни.
Не проходило и часа, чтобы я не вспомнила его.
В библиотеке я принялась читать «Ланд». Лилиан громогласно выразила изумление. Я отговорилась тем, что муниципалитет поручил мне разыскать материалы по очистке сточных вод.
Время от времени в мою сторону поглядывал Улоф: казалось, ему хочется о чем-то спросить. К счастью, он сообразил этого не делать.
Однажды мне вздумалось пойти обедать в кафе, где обычно тусуются иммигранты из разных стран. Я так пристально разглядывала их из-за своего столика, что мои намерения были истолкованы превратно и мне поступил ряд предложений, о которых я предпочла бы забыть. Учитывая, что повод меня туда привел довольно сомнительный (если не сказать дурацкий), я покраснела чуть ли не до пят.
День проходил за днем, и на меня с новой силой навалилась депрессия. Мэрта по-прежнему торчала в своем Копенгагене. Я пачками таскала домой дешевую фантастику и полуночничала в ванне — сидела там до тех пор, пока кожа не покрывалась морщинами и не приобретала покойницкий цвет. Я так старательно терла себя мыльной бабочкой, что от нее остался бесформенный розовый обмылок.
Как столь хорошее начало могло привести к столь печальному концу?
Судя по отсутствию звонка от Бенни, его тоже мучил этот вопрос.
Всякий раз, как я брался за трубку позвонить библиотекарше, я досиживал до того, что начинались короткие гудки. Она сказала, у нее культурный шок и ей надо побыть одной. Ну, три дня я выждал, не позвонит ли сама, потом все ж таки набрал ее номер. Ни ответа ни привета.
Нашел у себя в запасах открытку из серии «ПОПРАВЛЯЙСЯ!», написал библиотекаршин адрес, наклеил марку — и порвал.
Не раз хотел съездить в город и нагрянуть в библиотеку, потом передумывал: это уж будет слишком.
Погода катастрофически портилась. Два дня я убил на то, чтобы пригнать с выпаса овец (мне помогал соседский сын, тринадцати лет). Стадо слишком долго прогуляло на воле и накачало мышцы, как у первоклассных гимнастов. Бараны перемахивали через любую ограду, овцы носились быстрее лани. Если б я отправил их теперь на бойню, то выручил бы за голову не больше, чем стоит обед в «Макдоналдсе». А если б захотел резать дома со стариком Нильссоном, то не сумел бы разделать туши: такие жилы моя пила не берет. Ну и дали нам прикурить эти овцы! Мы с парнишкой бегали под дождем пополам со снегом, ругаясь на чем свет стоит. Особенно отличался мой напарник, который орал на скотину по-английски: «Fuck you!»
Кто б мне объяснил, зачем я держу овец? Прежде я делал это ради матери: она пряла шерсть, а потом вязала из нее всякое… или использовала на курсах валяния. Еще у нее было коронное блюдо — тушеная баранина с картошкой и фасолью. Мне, дураку, невдомек было научиться у нее готовить такую вкуснятину.
Мне вообще невдомек было, что мать когда-нибудь помрет.
Вот я и не тороплюсь избавляться от материных овец. Хватит с меня того, что пришлось разбирать ее комнату. Страшно вспомнить… Выгребать из шкафа платья, которые еще пахли ею, перебирать ее очки, баночки с лекарствами, журналы по вязанию. Я не был готов к тому, что после ее смерти придется этим заниматься, и пошел по пути наименьшего сопротивления: сложил все в два старых чемодана и запихнул на чердак. А комната материна осталась в прежнем виде, я только простыни с кровати снял. Еще там весь подоконник заставлен горшками с фиолетовыми цветочками. Теперь уж, наверное, засохли.