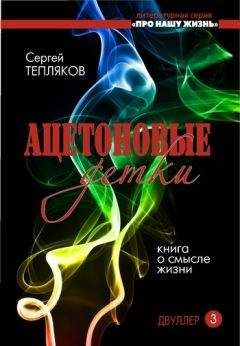Тимур из-за ее спины глянул на Козырева и медленно провел ребром ладони себе по шее. Козырев остановившимися глазами смотрел на это.
– Да ты пей чаек-то, Митяй… – ласково сказал Тимур. – Пей, а то остынет.
Козырев, не сводя с Тимура глаз, поднес кружку к губам и начал пить.
– Целая семья пропала… – говорила Марина. – Подумать только! Это у кого же рука поднялась, знать бы…
– Рекбус… – насмешливо сказал Тимур, пристально глядя на Козырева, так, что тот в конце концов опустил глаза. – Кроксворд…
Еще через день река вынесла к берегу Алину. Милиционеры уверяли Петрушкина-старшего, что дети могут с перепугу ходить по лесу – это, мол, бывает. Николай Палыч смотрел на тех, кто ему это говорил, так, что говорившие опускали глаза.
вечером в этот день все на той же редакционной машине они поехали на берег реки, на стоянку. Петрушкин походил по ней, потом сел на камень. Бесчетнов стоял невдалеке. Потом Бесчетнов подошел к старику. Все эти дни Бесчетнову казалось, будто Петрушкин-старший зажал сам себя железными скобами и ключ выкинул – чтобы не рассыпаться от происшедшего. А теперь Петрушкин плакал. В руках у него был фонарик и он его то включал, то выключал – пятно света то появлялось на воде, то исчезало.
– Вот как думаете, Юра, куда девается этот свет? – спросил Петрушкин. – Свет же состоит из фотонов, а это частицы, они должны накапливаться, как снежинки, лежать везде горами, в мире должно быть светло… А в мире преимущественно темно. Ночь преимущественно в мире…
Бесчетнов молчал.
– Вот от звезд свет идет за тысячи световых лет… – медленно говорил Петрушкин. – А от этого фонарика – два метра и все. Почему?
– Думаю, дальность света зависит от силы источника… – сказал Бесчетнов только для того, чтобы что-то сказать.
– Во! Во! – сказал Петрушкин, подняв палец. – Так сколько вокруг – и на планете Земля и во вселенной – источников света, а все равно – темно. Как же так?
Они молчали.
– Была такая программа – «очевидное-невероятное», вы ее поди и не помните… – сказал Петрушкин.
– Как же, помню, не такой уж я и пацан… – хмыкнул Бесчетнов.
– И там рассказывали о том, что все, происходящее на земле, не пропадает: оно отражается и картинками уходит в космос. И если придумать определенный аппарат и залететь на нужное расстояние вперед, то можно получать живые картины прошлого… – медленно говорил Петрушкин, глядя куда-то вверх, голосом, от которого мороз пробирал Бесчетнова по коже, и волосы шевелились у него на голове. – Мне тогда было интересно – посмотреть бы на Леонардо да Винчи… или на то, как Пушкин пишет «Евгения Онегина». А теперь думаю – посмотреть бы на них, когда они живы. На всех – на Лешу, на Алину, на Данила и Акимку… и вот так лететь и лететь с ними рядом…
У Бесчетнова пересохли губы. Он почувствовал, как по щекам его текут слезы.
– Мы с Акимкой выучили наизусть всю поэму «Медный всадник»… – тихо и счастливо говорил Петрушкин. – Представьте, Юра, всю! А ему три с половиной года! А с Данилкой был случай: увидел он как-то в магазине карася в большом аквариуме и говорит: «А чего он здесь плавает?!». не объяснишь же ему, что карася держат в аквариуме, чтобы потом выловить живым, зажарить и съесть. Ну что-то я ему сказал невразумительное… – Петрушкин усмехнулся воспоминаниям. – А он говорит: «надо его выпустить!». и представьте, Юра, купили мы этого карася, и вместо того, чтобы зажарить, выпустили! Недалеко от нашей дачи вместе с Алексеем и выпустили! А потом Данил написал на листке: «Здравствуй, Карасик! Это Данилка, который тебя спас».
он замолчал. Бесчетнов тихо сглотнул, но ком в горле все равно никуда не делся. Он редко видел петрушкинских сыновей – разве что на той фотке, которая теперь постоянно стояла у него перед глазами.
– А через два дня Данил потянул нас всех на озеро – искать ответ от карасика! – старик засмеялся. – Искали мы, искали – не нашли. Данил расстроился. Я ему говорю: «ну ничего, вот как найдет карасик листок и чернила, так сразу тебе и напишет». на следующий день я говорю: «Пойдем. Еще поищем!». опять пошли на берег и представьте – на тополином листе чернилами написано: «Здравствуй, Данил! Пишет тебе твой друг Карасик, которого ты спас. Теперь у меня большая семья, и я всем рассказываю про доброго мальчика Данилу. Еще спасибо за письмо. Я на него не сразу ответил, потому что долго делал чернила и готовил наш домик в пруду к зимовке. До свидания. С приветом. Твой друг Карасик». Что тут было… и потом еще долго Данил переписывался с Карасиком…
Петрушкин вспомнил, как писал эти письма на больших желтых тополиных листьях, и подумал, что вот не знал он тогда своего счастья, не знал.
– Нынче же Данилка закончил первый класс… – медленно заговорил он. – Хорошо закончил, только с одной четверкой. Но и то расстроился. И говорит: «во втором классе у меня такого уже не будет»…
Тут голос у старика сорвался, он опустил голову и беззвучно зарыдал. Бесчетнов отвернулся и уставился на черную воду реки, не видя ее сквозь слезы.
«Не будет… не будет… – подумал Бесчетнов. – ничего уже не будет»…
Тут в кустах хрустнуло. Петрушкин посветил на звук фонариком – в луче света стоял старик в белом брезентовом плаще.
– Вечер добрый… – сказал дед.
– Здравствуйте… – сказал ему Бесчетнов, а Петрушкин только кивнул.
Дед подошел.
– Я извиняюсь, а вы, говорили мне, отец того мужчины-то, что нашли здесь? – спросил дед, глядя на Петрушкина странными рыбьими глазами.
– Верно вам говорили… – ответил Петрушкин.
– Сочувствую вам… – сказал старик. – Такое горе… не дай Бог… А детишки – внучата ваши?
– Внучата, да… – ответил Петрушкин, делая усилие, чтобы не заплакать.
– А еще-то детишки у вас есть? – спросил дед.
«Ишь, любопытный… – подумал Бесчетнов. – Будут потом год сплетничать по селу, кости Петрушкину перемывать».
– Нету больше… – ответил Петрушкин. – Один был у нас сын. Такой был сын – душа радовалась, сынище!
– А что следователи говорят – нашли убивца-то? – полюбопытствовал дед, уставясь на Бесчетнова.
– Говорят – ищут… – устало ответил Бесчетнов.
– Ну да… ну да… – проговорил дед, как-то вдруг уйдя в себя.
– А ты что, дед, знаешь чего? – вдруг насторожился Бесчетнов.
– Да откуда же мне знать? – пожал плечами дед. – Наше дело стариковское – с огорода на печку, с печки – на огород…
– Так, может, подскажешь чего? – спросил Бесчетнов, решивший, что неспроста объявился этот дед.
– Не, ничего не подскажу… – решительно сказал дед.
«А чего же пришел? – подумал Бесчетнов. – Или думал, мы тут поминаем, ждал, что нальем?»..
– Давай отойдем, дед… – сказал Бесчетнов, и они отошли от берега так, чтобы Петрушкину не было слышно, о чем они говорят.
– Вот скажи мне, возможно ли, чтобы двое детей – один семи, другой трех с половиной лет – забежали куда-нибудь в лес и сейчас там плутали? – спросил Бесчетнов.
– Плутать – дело нехитрое… – ответил дед. – А по ночам сейчас тепло еще – не замерзнут. Но… – помялся он. – Лес тут жидкий – вышли бы они уже давно. Если бы живые были…
Бесчетнов нахмурился. Он встретился с дедом глазами. Дед смотрел на него изучающе.
– Дед, если тебе есть, что сказать, так ты скажи… – тихо проговорил Бесчетнов.
– Не люблю я вас, городских… – медленно сказал дед. – Но такое горе у человека, что молчать грех, и не буду я такое брать на душу. Видел я след на берегу – подошва с крупной насечкой. Как граната Ф-1. В армии служил? – Бесчетнов кивнул. – Тогда знаешь. Милиция, заметил я, гипсом этот след залила и с собой увезла. Так что он у них есть. А в Перуновке нашей есть сапоги – высокие, со шнуровкой, коричневые. Приметные. Скажи милиции – пусть она эти сапоги найдет.
– Ты, дед, если сказал «а», так говори и «б»… – проговорил Бесчетнов, чувствуя, как у него пересохло во рту.
– Ничего я тебе не говорил – ни «а», ни «б»… – сказал дед, глядя на Бесчетнова своими странными глазами. – Это ты сам догадался, ты же умный, городской. Коричневые сапоги. Фасонистые. В Перуновке пять десятков изб, а ног сотни две, ну три. Бабские и детские ноги отымаем – получается всего ничего. Найдешь.
– А чего же ты ментам не сказал?
– А я и тебе ничего не сказал… – усмехнулся дед. – Но ты найдешь, а менты не найдут, даже если я им эти сапоги нарисую. Зато славы будет столько, что мне потом в деревне не жить.
С этими словами он повернулся и медленно ушел. Бесчетнов с горящей головой вернулся к Петрушкину.
– И чего он хотел? – спросил Петрушкин.
– Да так… – ответил Бесчетнов. – Закурить спросил, да поговорили малость.
– Что говорит?
– Говорит, что не было такого никогда. Совсем, говорит, с ума народ сошел… – сказал Бесчетнов.
Петрушкин кивнул, поднял голову и уставился на звезды.
– Ну и зачем ты их, сказать-то можешь? – спросил Гранкин, низко наклонясь над столом и пытаясь заглянуть Тимуру в глаза. Но Тимур опускал голову все ниже. Не то чтобы стыдно было ему или, например, плакал бы он – нет, просто прятал глаза, будто они что-то могли выдать. Выражение на лице было «ну чего привязался?!». Тимуру было скучно, он томился.