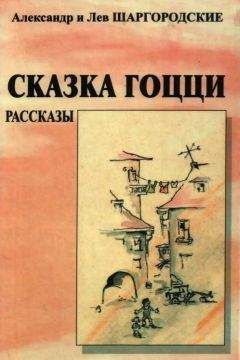— А, по-вашему, это не лекарствие?
Ленинградский двор после войны, где на голову могли угодить недоеденные щи, непотушенный окурок, утюг или пыль с вытряхиваемого ковра. Он пах махоркой, селедкой, печеным картофелем и пирожками с повидлом…
Горячие пирожки моего детства. Я шел за ними через наш двор, сжимая мелочь в кармане. Каждое утро мама давала мне восемьдесят копеек на два пирожка с повидлом — «перекуси на большой переменке» — и каждый раз я не доходил до них. Передо мной вырастал Громила — в рваных штанинах, с соплей под носом, прыщавый и рыжий. В отличие от клумбы, обойти Громилу было невозможно. Он был старше меня года на три и такой огромный, что, когда стоял в профиль — был шире, чем я в анфас. Из него можно было сделать трех таких, как я…
Красная морда его перекрывала всю подворотню — ту, что вела во второй двор.
Он был неимоверно вежлив, этот Громила.
— Привет, Породистый, — говорил он и давал мне нежный поджопник, — чтобы быстрее проснулся! Как спалось?
— Неплохо, — отвечал я.
— Директриса не приснилась?
— Н-нет.
— А у меня все кошмары, — зевал Громила, — каждую ночь снится, что нет денег на «Зенит»!.. Куда шлепаешь, Породистый?
— В школу, — отвечал я.
— Ну, ты даешь? — удивлялся он. — Собираешься на переменке пошамать пару пирожков с повидлом? Или сегодня предпочитаешь с яблоками?
Я молчал.
— А знаешь ли ты, — продолжал Громила, — что сладкое вредно, — он давал мне еще один поджопник, — что от сладкого толстеют?
— Мне не в кого толстеть, — слабо парировал я, — у нас в семье все худые.
— Сыграем в «пристеночек», Породистый?
— У меня нет денег, — врал я, — ни копья!
— Ни копья?! — Громила ловко выворачивал мои карманы. Из них на булыжник вываливались ириски, платок, резинки и несколько монет.
— Ни копья?! — вновь возмущался Громила. — А это что?! А это что?.. А ну, пошли под арку.
И я понуро тянулся в подворотню. Там всегда было темно и сыро. Все стены ее были испещрены надписями, самой приличной из которых была: «Настька — курва!» Что, в общем-то, соответствовало действительности.
— Начинай, — говорил Громила, — у тебя как раз на два пирожка. Не пройдет и десяти минут — и у тебя будет ровно на четыре! Ты сможешь съесть четыре, Породистый?
— Смогу, — отвечал я.
— Да, — печально продолжал Громила, — у меня такое чувство, что сегодня ты меня обыграешь. И все-таки, несмотря ни на что, я буду играть! С моей стороны было бы не по-джентльменски играть только тогда, когда уверен в победе. А? Как ты считаешь, Породистый? Ведь это будет не по-джентльменски?
— Не по-джентльменски, — соглашался я.
— Ну, давай, выигрывай, — говорил он, — ешь свои пирожки, толстей, оставляй меня без футбола…
Я размахивался и бросал монетой об стену. Она отскакивала и падала на землю. Затем бросал Громила. Монета падала, и кто пальцами одной руки дотягивался от одной монеты до другой — тот выигрывал.
Эта игра называлась «пристеночек». В те далекие годы вся шпана Ленинграда дулась в «пристеночек».
Монеты стучали громко и весело. Даже много лет спустя, далеко от Ленинграда, я часто слышал этот звук — весь мир играл в «пристеночек». Каждый по своему…
Обычно все старались бросить так, чтобы одна монета упала как можно ближе к другой. Но Громиле было на это ровным счетом наплевать. Потому что Громила был феноменом — у него была безразмерная пятерня.
Пальцы у него были чрезвычайно короткими — казалось, они оканчиваются на первой фаланге. Но это был обман. Когда речь шла о монетах — они становились гуттаперчевыми, они увеличивались настолько, сколько было нужно, чтобы дотянуться до обеих монет. Хотя на уроках музыки Громила не мог взять и пол-октавы. Его пальцы еле охватывали пространство от «До» до «Фа», хотя с одной стороны их растягивал весь класс, а с другой — учительница музыки Эльфрида Пакуль.
Помог вечный выручала, мой друг Фэнарь.
— А вы положите на клавиши монетки, — посоветовал он.
И на глазах обалдевшей Эльфриды Пакуль Громила сходу взял две октавы.
— Лист! — вопила обалдевшая учительница, — две октавы брал только Ференц Лист!
Фэнарь передвинул монету чуть дальше — и Громила спокойно взял три.
Тогда-то с Эльфридой и случился первый нервный припадок. Даже наш физик не мог объяснить феномен Громилы.
— Я думаю, что мы стоим на пороге открытия века, — философски говорил он. — Очевидно, деньги подогревают Громилу, а, как известно, тела при нагревании расширяются…
Директриса утверждала, что у Громилы вообще не пальцы, а щупальцы капитализма.
— Мы что-то недоглядели, — печально говорила директриса, — у нашего советского школьника отрасли щупальцы.
Литератор Бейрад закатывал глаза и возводил руки к небу.
— Растиньяк, — патетично произносил он, — почитайте Бальзака — и вы все поймете.
Яснее других, как мне казалось, загадку Громилы объяснял математик Пузыня.
— Что вы хотите, — пожимал он плечами, — квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов…
Итак, монеты падали на сырую землю подворотни. Как бы близко они не падали друг от друга — я никогда не дотягивался. Как бы далеко не лежали одна от другой — Громила, дотягивался всегда. Он оком полководца оглядывал лежащие монеты, как бы оценивая ситуацию.
— Да, — говорил он, — тебе, Породистый, повезло. Ты будешь жевать пирожки — а я не пойду на свой любимый «Зенит»… Ну, тянись. Отдаю тебе право первой ночи.
Зачем мне нужно было это право? Все равно я никогда не выигрывал. Я начинал вытягивать свои пальцы.
Громила с улыбкой наблюдал за мной.
— Не тяни грабки, — наконец, говорил он, — протянешь ножки. А ну-ка, уступи старшим.
И тут начинался целый ритуал. Он расставлял ноги, набирал полную грудь воздуха, наклонялся, и из его рваных штанов всегда проглядывала белая задница. Затем он упирал большой палец с грязным ногтем в одну монету, а безымянный с таким же ногтем впивался в другую, где бы она ни находилась.
— Опп! — говорил он, весь красный, и монеты исчезали в его широченных штанах, а сам Громила вместе с пальцами возвращался в прежнее состояние. — Ставь еще, Породистый. У меня такое чувство, что сейчас тебе подфартит.
История повторялась. Мы играли до тех пор, пока все мои деньги не перекочевывали в его карманы.
— Ах, огурчики мои, помидорчики, — напевал Громила, подбрасывая выигранные монеты, — Сталин Кирова убил в коридорчике…
Я стоял в вонючей подворотне и мечтал о коммунизме, когда деньги исчезнут и пирожки будут раздавать бесплатно.
Громила был мудрее меня.
— Дурашка, — ласково говорил он, — гроши не исчезнут никогда! Во что же тогда челдобреки будут играть?
Он удалялся с весело звенящим карманом.
— Не грустить, — приказывал он напоследок, — не в деньгах счастье!
Уже, тогда я заметил, что это говорят те, у кого они есть.
Громила съедал по утрам семь-восемь пирожков — он выигрывал не только у меня.
Ел он жадно, заглатывая огромные куски, повидло текло по подбородку.
— Сволочи, — говорил он, — вы специально мне проигрываете! Вы хотите, чтобы я был толстым!.. Держите меня, я толстею!..
Я никогда не говорил маме, что за все это время мне ни разу не удалось добраться до пирожков — я не хотел ее расстраивать.
Иногда, когда мы гуляли с ней по Невскому, мимо толстых теток в белых передниках, оравших: «Пирожки, горячие пирожки, румяные пирожки!» — я просил мне купить маму один, но она всегда отвечала:
— Не надо тебе столько сладкого. Ведь ты уже ел в школе. От сладкого толстеют!
После этой фразы я вздрагивал.
— Но если тебе очень хочется, — продолжала мама, — на, держи.
Я не брал денег — я знал, у нас с ними было туго. Тогда у всех с ними было туго.
Чего я только ни придумывал, чтобы избежать встреч с Громилой.
Я пытался пробраться по двору рано утром, до рассвета — Громила с нахальной улыбкой стоял на посту:
— Сыграем в пристеночек?
Мне казалось, что он никогда не покидал двора.
Я решил проникнуть на улицу через чердак, спустившись по водосточной трубе. Громила стоял на крыше:
— Сыграем в пристеночек?
Он никогда не отбирал у меня деньги — он только предлагал сыграть.
Однажды в отчаянии я спрятал деньги в рот.
Громила вырос на моем пути.
— Споем? — предложил он, и первый затянул:
«На позицию девушка провожала бойца…»
— «… Темной ночью простилися…», - нехотя протянул я. Монеты зазвенели по камням…
— Сыграем в пристеночек?
Я хотел сказать маме, что мне больше не нужны деньги, что я разлюбил пирожки, что от них толстеют — но боялся, что она что-то заподозрит.
Как-то она протянула мне рубль двадцать.