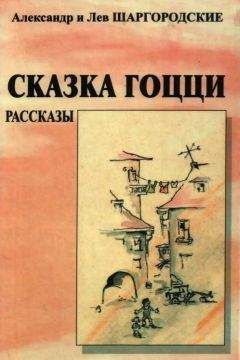— Ур-ра, — завыли солдаты.
— Ах, крават, крават, — печально вздохнул Сталин, — а ну-ка, Хасбулатов, сними-ка с меня сапоги, ноги ломит.
Подскочил молодой полковник и ловко снял со Сталина кожаные сапоги.
— Ах, крават, крават, — печально повторял Сталин, — ну, ладно, покажи, Хасбулатов, что ты мне на этот раз приготовил.
— Ввести! — рявкнул Хасбулатов.
В комнату ввели десять девушек, одна прекраснее другой, и выстроили вдоль стенки.
Сталин в шерстяных носках начал принимать парад.
— Здравствуйте, дэвушки, — сладко произнес он.
— Здравия желаем, товарищ Сталин! — хором рявкнули девушки.
— Всэ комсомолки? — осведомился Сталин.
— Так точно!
— Тогда раздевайтесь, товарищи!
Девушки неловко разделись, и Хасбулатов раздал каждой флажок с надписью «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.»
— Не надо благодарностей, — скромно заметил Сталин, — дэлаю все, что могу. Дэвствэнницы, пожалста, шаг вперед.
Все гордо шагнули.
— Не врэте? — лукаво поинтересовался Сталин.
— Честное комсомольское! — девушки отдали салют.
— Харашо, харашо, вэрю, — улыбнулся Сталин, — школныцы — шаг вперед.
Шагнуло трое.
— Какые классы? — спросил Сталин.
— 10-А! 9-В! 10-Б!
— Я кончил только четыре, — Сталин печально покачал головой, — революцыа звала. Ах рэволюцыа, революцыа…У кого пятерки по истории партии — два шага вперед.
Двое девушек шагнули, но Сталин подошел к оставшейся и взял ее за локоть.
— Как тебя звать, девушка?
— Л-людмила, — ответила та, ноги ее тряслись.
— Пайдем, Людмыла, — Сталин повел ее к кровати.
— Товарищ Сталин, — крикнул Хасбулатов. — Вы не ошиблись, у нее не пятерка по истории партии.
— Товарищ Хасбулатов, — скромно ответил Сталин, — немедленно разденьте товарища Сталина.
Полковник начал снимать с генералиссимуса китель, галифе, трусы.
При виде генеталиев товарища Сталина Шепшеловичу стало дурно.
— Почему, девочка, ты первой лезешь на кровать? — услышал Шепшелович. — Помоги сначала товарищу Сталину.
Раздались стоны, кряхтенье, наконец, что-то бухнулось на кровать.
— Спасыб, — сказал Сталин, — спасыб, теперь сама начынай подъем.
Юное тело легко взлетело на кровать.
Сталин начал раскуривать трубку.
— Скажи мне, — наконец начал он, — в каком месяце произошла Великая Октябрьская Революция?
— В м-марте, — ответила Людмила. Она вся дрожала от страха.
— Правылно, девочка, — Сталин остался доволен. — А ысторыческы мартовскы плэнум?
— В-в… июле…
— Маладэц!! Странно, что у тебя не пятерка по истории партии. Придется расстрелять учитэля.
Сталин молча курил трубку и о чем-то напряженно думал. Людмила сидела, сжавшись в другом конце кровати, не зная, что сказать.
— О чем вы думаете, товарищ Сталин? — неожиданно спросила она.
— Всегда об одном, — ответил Сталин, — о народе. Покажи что-нибудь, дэвочка.
— Я комсомолка, товарищ Сталин, — Людмила зарделась.
— Ну и что, что комсомолка?! — Сталин удивился. — Сколько тэбэ лэт, дэвочка?
— 16.
— А мне — сэмдэсят! А еще джигит, а?!
— Джигит! Джигит!! — подтвердила Людмила.
— Ты меня поздравила с юбилеем?
— А как же, товарищ Сталин.
— Что ты мне пожелала?
— Здоровья, долгих лет, чтоб вы долго жили на радость нам!
— А вот какая-то сволочь, одна сволочь из наших двухсот миллионов замечательных граждан, пожелала мне, чтоб я сгорел. Это не ты, девочка?
— Что вы, товарищ Сталин! — Шепшелович видел, как Людмила подскочила почти до потолка.
— Значыт, не ты? — уточнил Сталин.
— Честное комсомольское!
— А почему же тогда, девочка, он на тебя не встает?
С Людмилой начало происходить что-то ужасное, она задыхалась.
— Я — комсомолка, я — п-пионерка, я — верный ленинец.
— Нэт, ты враг народа, девочка, — перебил ее Сталин, — у меня только на врагов народа не встает! Товарищ Хасбулатов, арестуйте школьницу-комсомолку.
Людмила заревела. Шепшеловичу кровь бросилась в лицо. Из-за него должно будет погибнуть юное невинное создание. Он не мог промолчать.
Откинув полог, Шепшелович выскочил из-под кровати:
— Отпустите девочку! — крикнул он. — Это я пожелал вам сгореть! Она не виновата! Отпустите девочку и арестуйте меня!
Шепшелович протянул руки для наручников.
На кровати никого не было.
В комнате стоял сильный запах «Герцоговины Флор»…
«Если он в ближайшее время не сдохнет в Кремле, — подумал Шепшелович, — я тронусь.»
И вновь залез под кровать.
Вскоре пришел Гурам и сказал, что в Тбилиси тревожно, ждут прибытия Сталина и всюду ожидаются обыски. Надо немедленно бежать.
— Куда, — спросил Шепшелович, — я знаю, что под кровать, но куда?
— В Киев, — сказал Гурам, — там у меня кацо живет, замечательный человек, вино любит, цветы любит, грузин любит.
— А евреев? — спросил Шепшелович.
— Разве после «Цинандали» можно кого-либо не любить? — спросил Гурам…
В Киев Шепшелович летел самолетом, но в трюме, в ящике для цветов. Гурам вез их на центральный рынок по 5 рублей за штуку. Среди красных роз лежал белый от страха Шепшелович. Он задыхался от аромата, шипы кололи во все места. Он их возненавидел и больше в своей жизни никому не подарил ни одной розы.
— Ваш ключ тоже гуляет? — спросил Шепшелович.
— А как же, — с украинским акцентом ответил Богдан, — от Киева до Одессы.
Воистину это было братство ключников, но выбирать не приходилось, и Шепшелович вновь полез под кровать. Ничего более отвратительного и мещанского он не видел — стальная, с набалдашниками, она была со всех сторон покрыта вышитыми покрывалами, наволочками, салфеточками с бахромой, с кошечками, собачками и сладкой надписью «Ласково просимо».
Ко всему прочему кровать в Киеве была антисемитской, то есть на нее залезали только антисемиты. Они так ненавидели евреев, так их поливали, что забывали, зачем они сюда приходили.
— Еврэи нэ дают нам жыть! — басил кто-то с кровати. — Они всюду — на земле, в небесах, на море!! Мне даже кажется, что есь какой-то еврей под нами, Гандзя.
— Да что вы говорите глупости, Апанас Петрович!
— У меня нюх. Ну, да ладно, сымайте штаны…
Другие объясняли, как еврея распознавать.
— Слушай, Галушка, це просто, если у чиловика отвислы уши, горбатый нос и утиные ноги — то це эврей.
— Боже мой, — вскрикивала Галушка, — так это ж вылитый вы, Остап, честное слово.
Слышался сильный удар, Галушка ревела.
— За что, Остап, за что?
После киевских половых актов, на кровати начинались мечтания. В основном — о погромах.
— Ах, Анфиса Порфирьевна, — вещал один, — поймать бы сейчас жиденка, да вспороть ему перину.
Шепшелович затыкал уши, стараясь уйти в пол. В перерывах между актами он впадал в размышления.
«Я еще могу понять, почему все совокупляются, — думал Шепшелович, — Бог вложил в нас инстинкт продолжения рода. Хотя к чему такой род? То, что все трахаются, я еще могу понять, но почему все антисемиты?»
— Потому, что евреи режут баранов, — доносилось с кровати, — они травят воду в водопроводной сети и куличи на пасху.
— Что вы говорите, Мыкола Ныколаевич! — всплескивал кто-то руками.
— А як же, они и Сталина отравить хотели, врачи эти жидовские, они чуму нам прививают, холеру, — а як же.
— Боже мой, — вскрикивал опять женский голос, — Мыкола Ныколаевич, это не они вам ымпотенцыю, гадыки, привили.
— Ане, Марычка, ане.
«Какой черт занес меня сюда, — думал под кроватью Шепшелович, — столько в России городов. Почему я не бежал в Таллин с его соборами, там хотя бы звучит Бах, улицы узкие и вкусный кофе.
Впрочем, какие улицы, какой кофе, опять кровать, но, возможно, на эстонской кровати говорят по-эстонски, я б ничего не понимал, я б отдохнул. Ах, Киев, Киев…»
Киев был вообще опасный город. Одна встреча на кровати чуть не стоила Шепшеловичу жизни.
Как-то под Новый год пришел некий Тарас с Оксаной Васильевной. Сначала пели «Гляжу я на небо», потом пожевали кукурузы, поливая всех знакомых, затем залегли. Тарас громко рыгал, других звуков с кровати не поступало. Затем Оксана Васильевна обозвала Тараса «козлом».
У Тараса чего-то там не получалось, и он был уверен, что во всем виновата кровать, вернее, ее расположение. Он кричал о каких-то подземных электромагнитных потоках, которые якобы пересекают кровать и лишают мужчину потенции.
Тарас отчаянно схватил кровать и начал ее переставлять. Шепшеловичу ничего не оставалось, как присосаться к ней ногами и руками на манер обыкновенной пиявки.
— Шлюха! — ругался Тарас. — Какая тяжелая! Сколько в ней, падле, веса!