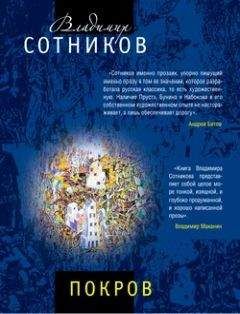Снег был холодным, но не безвкусным, как всегда, – слабенькая сладость таилась в нем, но почему-то во рту она становилась противной от несовпадения легкой, растворенной сладости с запахом. «Вишневое», – сказал Павел, и после этого действительно на мгновение показалось, что снег холодно пахнет вишнями. Но вкус исчезал, а во рту оставалась липкая слюна, и хотелось сплевывать, как при тошноте.
Брат дернул его за рукав: «Пошли, а то нас искать будут». Он захватил в руку еще снега, по дороге откусив большой кусок, но от холода – аж зубы заныли – выплюнул. А сзади копошились, как птицы вдалеке на пашне, тени, и слышался смех Павла.
Дома родители были заняты переливанием вина, и они с братом прошмыгнули мимо. Отец все-таки приподнял голову, спросил: «А вы где шлялись?» Брат, не глядя ему в глаза, ответил: «Смотрели, как вино продают». – «Нечего это смотреть, а ну-ка спать», – строго сказал отец, и было даже радостно это услышать. Они быстро разделись и, не зажигая света, легли в темноте.
Во рту было противно, он сглатывал – уже чувствовалось, что начинает болеть горло. И казалось, кровать плавно колышется, поднимается одним краем, и хотелось закрыть глаза, но от этого кровать начинала еще сильнее закручиваться. Перед глазами мелькал свет фонарика, сверкала кружка, лежавшая в снегу, и в ушах звучал смех Павла. Надо было за что-то ухватиться руками, он поднял их, уцепился за спинку кровати, словно стараясь удержать ее. Наверное, он и уснул с открытыми глазами и только во сне закрыл их.
Снилось что-то страшное, но как ни силился, утром не мог ничего вспомнить. Болело горло, нельзя было глотнуть, и он со страхом думал, как скрыть это от родителей. Наверное, с братом было то же – они хмуро посмотрели друг на друга, не сказав ни слова. Хотелось быстрее выйти из дома. Одевшись, почти не завтракая, он выскочил за дверь, думая, что в поле, где можно дышать глубокими вздохами, горло перестанет болеть.
Он шел, не чувствуя, что кружится голова, смотрел себе под ноги и боялся, что в школе все будут вспоминать вчерашнее – представлял, как Павел будет хвастать и смеяться.
И вдруг он вспомнил, что перед самым пробуждением видел огромное, без границ и очертаний, пламя – в нем сгорел, исчезнув навсегда, сон этой ночи. Наверное, он был в самой середине этого пламени, потому что не было ни взгляда, ни места, с которого он смотрел на огонь, съедающий себя и вновь возникающий в новом, еще более ярком всплеске. Давно, совсем маленьким, он спрашивал отца, глядя на закат: «А можно дойти до того неба?» Отец улыбался и отвечал, что нет, нельзя, сколько ни иди, а закат будет таким же далеким. Может быть, в своем сгоревшем сне он побывал в центре этого багрового пламени? А может, он увидел только конец сна о пожаре, в котором сгорел дом через улицу? И как похоже на тот далекий вечер, когда бушевало пламя, спешили вчера в темноте люди с ведрами – и эта темнота с приглушенными голосами и смехом осветилась перед самым его пробуждением огнем, в котором сгорел и сон.
Когда он думал о том времени, которое ждет его впереди, то представлял всегда последний поворот дороги у крайнего дома на улице. Дорога, обогнув невысокий холмик, исчезала, вновь всплывая уже далеко, почти неразличимая, у самого горизонта. А проходящие, улетающие назад дни собирались в фигурки, похожие на кольца. Так год двигался по кругу-кольцу с пустотой внутри, а по краям размещались: лето – вверху, потом время опускалось в осень, перетекало внизу в зиму и уже поднималось к весне, чтобы после нее замкнуться, нагоняя свой конец, летом. А недели, перенесенные со страниц школьного дневника, прыгали сверху вниз двумя колонками к среде и субботе, и воскресенье только мелькало перевертыванием страницы. Недели проскакивали своими днями-ступеньками, но зато плавно скользили по огромному кольцу месяцы, отплывая назад. Этот детский образ убегающего времени останется с ним навсегда, даже яснея с годами, и только видение дороги всегда будет скрывать за собой что-то смутное, до конца никогда не представимое. Начало дороги, вырываясь из конца улицы, вдруг пропадало за холмом и только у самого горизонта, касаясь неба, оборачивалось ясностью, притягивающей взгляд.
Он не раз бывал на этой дороге – сразу за холмом она открывалась вся, до видимого конца, но никогда, находясь на ней, он не связывал ее со временем: наяву дорога занимала его собой полностью, он любил всегда смотреть, как закручиваются поля по обе стороны, убегают у края дороги назад, а у горизонта вместе с далеким лесом медленно скользят вперед.
Потом, когда он научился ездить на велосипеде, поля завертелись быстрее и даже в тихую погоду свистел в ушах ветер, доказывая скорость. Через несколько минут он уже достигал того места, где дорога, если смотреть от дома, касалась неба, и видел, что впереди открывается новый простор, кажущийся большим, чем тот, в центре которого лежала сзади неподвижная, уменьшенная до игрушечной деревня. На той дороге появлялась непонятная сила, тянущая назад, словно он натягивал невидимую резинку, и, чтобы не разорвать ее, надо было вспомнить что-то и повернуть обратно. Чем дальше он ехал по дороге, тем тревожней становилось это чувство. Как будто кто-то говорил ему: все, хватит, хватит, – а он не слушался, и от этого тревога нарастала сладостью и беспокойством. Зато, поворачивая назад, он несся быстрее – казалось, ветер подгоняет его в спину, хотя он так же бился в лицо, заставляя все впереди дрожать в почти неощутимых слезах.
Однажды он заехал так далеко, что оказался у той деревни, которую видел всегда только издалека, маленьким комочком слитых деревьев и крошечных домиков. Он остановился перед широким, как плес на реке, въездом в деревню. Крайние на улице дома хотя и выглядели как сотни других, но таили в себе особенное, чужое чувство – казалось, что навсегда неизвестно, что находится внутри них, и окна отсвечивали наискосок тусклым, непроницаемым блеском. Как и всегда летом, на улице было тихо и пусто. Сидели, закопавшись в песок, куры у палисадников, иногда пошевеливались, словно стараясь зарыться в песок совсем.
Он огляделся кругом – сады подступали снизу от луга совсем непривычно, и он подумал, как это все входит в название деревни – Дудичи. Так же, как в этом слове, в заборах и в садах, поднимающихся отдельными площадками к задам домов, звучали ступеньки, и если слово повторять, то оно уже стремилось к каждому дому, прилеплялось к нему своим окончанием.
И он вдруг увидел не замеченную раньше в гуще деревьев на возвышенном перед деревней месте церковь. Старая зеленая краска потрескалась мелкими, как на высохшем листе, прожилками. Церковь была обнесена низеньким, кое-где упавшим заборчиком. Он повторял все неровности земли, плавно тянулся и там, где упал, казалось, споткнулся и должен вот-вот подняться. Деревянные обшитые стены стягивались огромным ржавым замком на обыкновенных дверях с широкими щелями. Вся церковь, несмотря на эти щели, высохшую краску, местами оголившую дерево стен, выглядела на чистом посреди деревьев месте крепко и надежно – что-то в ней походило на чистого лицом, ясноглазого старика, остановившегося в неподвижности возле самой дороги. И вверху, над гладким, краской же покрашенным куполом ровно стоял бледный, словно от холода, крест.
И даже замок, глядящий под ноги черным одиноким глазом, подтверждал сразу возникшее чувство: казалось, кто-то есть внутри церкви, слился с молчанием, хранимым под куполом, и как должен быть высок взгляд изнутри, если и отсюда он смотрел с изменившимся дыханием от легкости и открытости купола навстречу плывущим облакам. И вокруг, в деревьях и воздухе, затаилось то молчание, которое отличимо от тишины значением и смыслом покоя. Зашелестело вдруг одно дерево, и, слабо встрепенувшись, все деревья пропустили через себя этот шелест, и цвет неба за дрожащими листьями становился ярче и пронзительней.
Захотелось подойти поближе – положив на землю велосипед, он осторожно переступил через упавший забор – то ли оттого, что ступал он тихо, то ли оттого, что прислушивался к неразличимому далекому гулу, он перестал ощущать свою тяжесть и, почти невесомый, шел медленно, глядя вверх, на исчезающий за куполом крест. Остановился у самой стены – можно было уже дотронуться рукой, но что-то сдерживало его, и он только смотрел прямо перед собой на показавшееся из-под краски кольцо сучка, похожее на те кружочки в стене его дома, к которым он любил приближаться глазами, и засохшая в сухих капельках смола превращалась в горы, видимые с высокого неба.
И он не выдержал, дотронулся пальцем до стены, неслышно хрустнула отставшая краска – он вздрогнул и отдернул руку. Он услышал в стене дрожащий гул, похожий на нескончаемый гул высокого столба, и это мгновенное прикосновение вывело его из оцепенения, он быстро оглянулся, увидел лежащий велосипед и побежал к нему. Казалось, кто-то смотрит на него сзади, и он поспешил ухватиться за холодный руль, чувствуя, как этот холод пронесся по всему телу, немея в ногах. И боялся обернуться, пока не отошел несколько шагов, и потом только глянул, попав сразу на летящий в облаках крест.