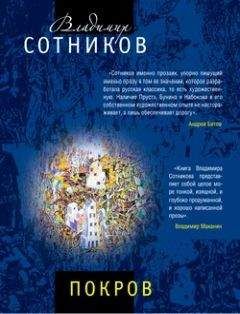Закончившись, день откатывался назад, и растянутое в нем томительное ожидание превращалось в усталую радость возвращения, и было приятно идти рядом со стариком, не изменившимся в своем спокойствии – разве только шаги его стали тяжелее и отчетливей слышно было свистящее дыхание.
– Ну, иди отдыхай, я прогоню дальше и зайду к вам.
Отец сидел за столом, улыбнулся навстречу и смеющимися глазами смотрел, как он раздевается. Зашла мать и сразу заговорила веселее обычного:
– О, пастушок пришел, пойду доить, посмотрю, как он накормил коровку!
А он раздевался, смущаясь от незнания, что рассказывать, и хотел быстрее пройти в спальню, и не от усталости, а чтобы скорее дать закончиться этому непонятному дню, успокоить последние минуты, которые все возвращали его туда, где на большом поле рассыпаны маленькие фигурки коров и под высоким светом разливается, улетая в пустоту, звенящий звук.
Он слышал, как в соседней комнате негромко разговаривал с отцом Минович, слова были неразличимы, они сливались с той тяжестью, которой наливалось тело, и он успел лишь подумать: «Вот так закрываются глаза…»
Жизнь, и больше всего его собственная, с каждым днем все сильнее не совпадала с делами и занятиями, которыми уходящее время заполняло память. Как вспоминается прошедший день? В соединении кусочков, называемых отдельно пробуждением, утром, днем, вечером и при желании рассыпающихся еще на тысячи осколков? Или в чувствах, повисающих над этими словами, и чувства уже не имеют резких границ, а плавно вытекают одно из другого, сотканные из запахов, предметов, своего взгляда в зеркале? И где остается все остальное из прошедшего дня, если вдруг выбираешь на мгновение пятно на полу – холодно и ярко сверкает солнечный свет по утрам, и почему только в этом вспыхивает память, заслоняя окно или рисунок обоев над кроватью?
Вот он держит в руке карандаш, и другая рука ухватывается за тоненькую эту палочку – и заметно изогнулся карандаш, вот-вот готовый треснуть, но что будет сейчас, чем обернется следующее мгновение? И казалось, легче сломать, оборвав быстрым хрустом ожидание, и, встрепенувшись, он оглядывается вокруг, разрешая предметам вернуть себе привычное значение.
На мимоходом брошенное отцом: «Где ты был?» – он говорил: «В лесу», – и этим словно закрывал за собой дверь, и короткий его ответ уже застывал в воздухе комнаты, теряя связь с лесной дорогой, одинаковым падением листьев, далеким деревом, у которого он повернул назад, – может, это и есть то место, где он был, ради которого и прошел весь путь туда-обратно? И что еще можно выбрать из этой дороги – сколько ни вспоминай ее, ни одно слово не могло прилететь оттуда без неточности и обмана.
Однажды, читая книгу, где одно лишь упоминание об окне заставило его подслушивать с улицы разговор героев, сидящих за столом с неразличимыми в мерцании свечи лицами, – он почувствовал, что еще кто-то смотрит на этот свет из противоположного окну угла, и как только подумал об этом странном, вдруг возникшем свидетеле – вспомнил мгновенно, как читал эту книгу прежде и смотрел тогда на пламя свечи оттуда, где и почудилось ему сейчас чье-то присутствие. И он уже не мог читать дальше, и свет, раздвоившись, исчез, вздрогнув напоследок от хлопнувшей двери.
Как-то ночью, когда еще не спал, он случайно открыл глаза – в самом верху окна на черном небе вспыхнула тоненькой полоской, словно чиркнули спичкой, упавшая звезда. Небо опять стало неподвижным, но, неотличимый до этого от тишины, вдруг повис в воздухе за стеклом гул далекой машины на шоссе, поднимаясь ввысь, звеня и утончаясь. Последний перед растворением в тишине звук отстал от сверкнувшей звезды, и это несовпадение было единственным, в чем ощущалось летящее навстречу время. И далекий, бесконечно далекий день его жизни замерцал, готовый сорваться со своего места, только дожидаясь, что тишина зазвенит единственным, вдруг найденным звуком.
В центре деревни, возле старой станции, похожей на сарайчик с односкатной крышей, была просторная площадка с плавными выбоинами, и редкие автобусы стояли на ней, ссутулившись, как подобравшие заднюю ногу лошади. Моторы, даже замолкая, все еще дышали теплом, храня в себе остановившийся запах дороги.
Рядом со станцией был буфет, к нему от автобуса пробегали несколько человек, и при этом всегда было похоже, что идет дождь. Иногда автобусы стояли подолгу, пассажиры смотрели через окна тихими горюющими глазами, и чье-нибудь лицо запоминалось – казалось, навсегда.
Но вот автобус отъезжал, напоследок громко просигналив отставшему, площадь становилась пустой, и воздух на ней долго еще успокаивался. Потом автобус пропадал в низине за деревней, сохраняя только звук, и через минуту, догнав сам себя, поднимался теряющей свой завод игрушкой на дальний гребень шоссе.
Солнце садилось, он возвращался от станции домой, и эта дорога всплывала потом в памяти вместе с красным небом впереди и тусклым от дымки полем.
Один вечер окрасил своим закатным светом эту дорогу, по которой он проходил тысячи раз, но всегда воспоминание вспыхивало одинаковым чувством, почему-то звучащим двумя словами, и второе из них вбирало, растворяя, первое – день рождения. Память, раскручиваясь в прошлое, останавливается на последнем витке, не имея сил разорвать его, брошенная змейка серпантина вздрагивает последним кольцом.
Проснувшись, он лежал долго, удивляясь тому, как не помещается в это утро долгое ожидание чего-то совсем нового и необычного. И даже закрыл глаза опять, чтобы проверить в темноте ускользающее наяву чувство. Но сон уже соединялся с утренним светом, словно останавливались качели в точке покоя, где закрытые глаза уже становятся притворством. «Проснулся» – бедное название этой точки. Ожидаемая вчера радость была рядом, как будто он вынырнул не там и сейчас оглядывается над водой, видя только отодвинутый берег.
Подумал словами, словно сказал: «Сегодня день рождения», – тройной звук был почти слышим. Он встал, и все его движения притворялись обычными – несколько шагов по холодному полу, вчерашнее чувство одежды, долгий застывший зевок. В доме было тихо, чувствовалось, что никого нет и в соседней комнате. Это сразу обрадовало, потому что с самого начала не хотелось слов, уже слышанных: «А вот и наш…» Но когда вышел в ту комнату и увидел, что действительно никого нет, стало жалко, словно обманулся – когда не знаешь, чего хочешь, всегда все кончается обманом. На полу кружилась на спине муха, не покидая квадрата солнечного света. Он перешагнул этот деревянный звук, открыл дверь в темноту сеней и постоял немного на пороге, словно ожидая, что сумрак поплывет в комнату – вечное обещание двери, которое она выполняла только зимой, впуская видимые клубы морозного воздуха.
Умывальник уже нагрелся на солнце, но вода была еще прохладной с ночи. Он медленно умывался, прислушиваясь к тому, как и звяканье умывальника, и ясное щебетанье воробьев в густой листве яблонь, и проехавшая по улице телега – все звуки освобождали в себе что-то одинаковое по смыслу, еще неясному, но накапливающему силы для простого и ожидаемого объяснения.
Перед глазами вдруг мелькнул квадратик бумаги, который он видел на столе в комнате – этот листочек уже притягивал к себе – одним выдохом стал весь путь от умывальника до стола. Короткая записка матери – что на завтрак, на обед. Последние слова «вернемся вечером» бессильно старались дотянуться через бесконечный день до своего подтверждения. Рядом лежали деньги – одна бумажка, связанная с запиской словами «на конфеты», и он обрадовался сделанному за него этой бумажкой выбору. Мелькнула тропинка за домом, ведущая к магазину, и растянутое впереди время мгновенно сократилось на этот ясный отрезок: дорога до магазина и обратно.
Но, конечно же, в магазин он пойдет не сразу – оставляя это про запас, он вышел на улицу. Каждый шаг заполнял только что прошедшее мгновение движением, которое подталкивало, невидимое, в спину. Он шел по лугу и прислушивался – вдруг стукнет калитка у дома, и надо будет вернуться, но вот уже отходит далеко, лес шумит близким своим гулом, и нельзя повернуть назад, словно кто-то увидел его впереди и дожидается неизбежного приближения.
Хотя до осени еще далеко, медленно падают листья – их мало, и можно успеть проследить каждое падение; сухие, они беспомощно вертятся среди сильной зеленой листвы, успокаиваясь только на земле. И нельзя понять, откуда они берутся – кажется, появляются уже в воздухе, вспыхивая залетевшей из осени картинкой, и ничто не верит такому предсказанию.
Он шел все дальше по знакомой тропинке, и казалось, что странное чувство, которое появилось здесь с его приходом, сотканное из неподвижных выражений обломанных сучьев, по-разному глядящих вверх пней, опущенных веток, – расколдуется, открывшись ясным вопросом, растворенным пока в этом воздухе: «Куда ты?» – и упавшая вдруг сухая толстая ветка сказала это на своем языке.