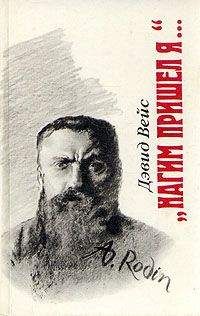На свет мобильника прилетели мотыльки, Димка щелкал кнопкой и нес в руке светящееся, живое облако. “Как красиво… Надо будет показать Ивгешке”, — радостно подумал он.
В темноте нащупал калитку и будто бы по старой памяти потянул дратву, поднимавшую щеколду.
Большая собака даже не заворчала, только обнюхала штаны и вильнула хвостом, наверное, узнав запах Барсика.
Голая лампочка в глубине двора освещала нежным светом зеленую нишу навеса, деревянный стол и спины людей, похожих на колдунов.
— Доброй ночи, — сказал Димка. — Извините, что поздно.
От стола поднялась и, дрожа лицом, пошла к нему крупная бабушка. Она взяла его ладонями за голову и троекратно поцеловала.
— Федор, Федор, — повторяла она и плакала. — Даже Пиратка тебя узнал, не гавкнул… А ведь Виталька наш помер в Германии, — обнимая его, она трогательно провела руками вдоль тела, будто проверяя его ауру. Димка читал в дневнике, что точно так же делала бабушка Федора. — Проходи, проходи, сынок, садись.
— Здравствуйте, это вам, — Димка поставил на стол мартини.
— Не-е, с вами на хер не заснешь! — с топчана в зарослях вьюна радостно приподнялся пожилой мужчина, с жидко облепившими лысину волосиками. — Наливай мартиню, а то все самокат, да самокат.
— Спи давай, алкаш, — беззлобно сказала женщина в люрексовой кофте. — Кто б тебе его налил!
— Да разви ж с вами заснешь, ля-ля-ля да ля-ля-ля…
Кроме тетки и бабы Кати за столом сидела пожилая чета, но Ивгешки нигде не было.
— Садись, садись, нам больше ждать некого.
— Не садись, а присаживайся. Сесть он всегда успеет.
— Спи, язвия тебя в душу.
— Да разви ж с вами заснешь…
— Помер мой внучек, — в черных глазах бабы Кати не было ничего, кроме брезгливого ужаса перед жизнью. — Да и ты сиротой остался.
— Мы че на поминках, я не понял?
— Пока что так получается, — солидно заметил другой мужчина, весь серый, будто сделанный из земли, даже кепка серая и папиросы.
— Помянем, хай земля будет пухом!
Димке налили полный стакан мутной жидкости, подали огурец, подвинули чашку картошки, сало, капусту.
Все задумались и затаили стаканы, чтобы ненароком не чокнуться. Димка погрустил чуть-чуть и с удовольствием, даже будто с жаждой выпил. Напиток оказался не таким противным и крепким, как он думал. Огурец, капуста и картошка хорошо снимали ожог в трахее и приятно дополняли вкус самогона.
— Не-е, не разучился в Москве самокат пить, как я погляжу, — одобрил его мужик с прилепленными волосами.
— Как же так, что он умер? — спросил Димка бабу Катю.
Она качала головой и, не мигая, смотрела на него.
— Как Виталька умер, спрашивает, — сказала ей в ухо тетка.
— Передоз, — это современное слово из наркоманского лексикона прозвучало у нее без всякой позы, спокойно и страшно.
— Как там, в Москве? — спросил мужик.
— Да-а, — Димка хотел что-то сказать, но сказать надо было бы так много, что он просто махнул рукой. — Все так же, плохи дела.
— А у нас еще хуже, руки отшибают, ничего не дают делать.
— А то, как же, еще и в рот насильно заливают, да? — спросила женщина.
Видно было, что она говорила все это уже сотни раз.
— Эх, как хорошо у нас в Казахстане было! — вздохнул земляной мужчина и закурил.
— Не отвлякайте! — сказала баба Катя. — Закусывай, Федь. Вон картошку бери, она с мыныезом.
Свет голой лампочки пухло освещал листья, облако мошкары вилось вокруг нее, мушки жестко бились о стекло и падали на стол. Котенок привставал на задние лапки и отмахивался от бабочки, а потом гонялся за нею, прыгая и не замечая никаких препятствий. У Димки потеплело на душе и защипало глаза. Ему вдруг что-то доброе и веселое сделать захотелось, и раз уж он пришел, то как-то ободрить этих грустных людей, обрадовать прекрасной и обнадеживающей историей.
— Дядя Кузьма, это вы? — осторожно спросил он.
— Ну, ептырный малахай! Кузьма Николаич напротив тя.
Земляной человек утвердительно качнул головой.
— А я дядя Петя — Горыныч! Я единственный такой.
— Да-а! — подтвердила тетка. — Второго такого клоуна нет!
— Антонина, корову закрыли? — тускло и с тем же выражением брезгливого ужаса спросила баба Катя у тетки в люрексовой кофте.
— Не знай? Ивгешка загоняла, вродекысь.
— Проверь, а то теленок к утру все молоко высосет.
И вдруг Димка вспомнил, как в сумерках они сидели на чурбачках у сарая, сгорбившись, с кружками в руках. Мама доила корову, а они ждали, когда она попросит у них кружки и прямо из коровы длинными струями наполнит их молоком. Кружки были теплые, и такие легкие, как будто из-за пены, которая шипела, лопалась, уползала и щекотала губы. Молоко пахло маминым запахом. Димка помнил, что потом пришла баба Катя за Виталькой… Так вот кто умер от передозировки! Потом улыбающийся дядя Миша неожиданно появлялся над плетнем и шутил с ними. Вспомнил, что небо было звездное, что хотелось спать.
— Парным молоком их напоила, — говорила мама.
— Эй вы, братья холики, хача мараля хвинчи хвинчи! — смеялся дядя Миша и кашлял.
Вдруг жена Кузьмы Николаича, женщина со светлым богомольным лицом, привстала, ссутулилась и нищенски склонила голову.
— В лунном сиянье снег серебрится. Вдоль по дорожке троечка мчится, — тонко запела она. — Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит…
Кузьма Николаич положил ей руку на плечо и усадил. Она покорно замолчала и смотрела светлым, извиняющимся взглядом.
— Не-е, ребзики, я с вами здесь не засну.
— Ну, так иди в дом, сколько уже раз!
— Там мухи!
— Ну, тады иди в свою фазенду.
— А-а, ладно, наливайте, и я пошел.
Антонина достала пластиковую канистру и разлила всем.
— Я очень благодарен вам, что вы пригласили меня! — Димка встал из-за стола.
Дядя Петя хотел сказать что-то, но тетка одернула его.
— Я давно не был здесь и наблюдаю вокруг, честно говоря, грустное зрелище разрушения. Но сейчас я вижу, что лучшие человеческие чувства, несмотря ни на что, остались неразрушенными, я рад, что могу вот так посидеть с людьми из своего детства, своей юности, теми, кто помнит предков моих и меня самого.
Вдруг над забором появилась черная голова, заблестели крепкие зубы в улыбке, а узкие глаза еще больше сузились.
— Амантай, напугал, язви тя!
— Извиняйте, православные! — сказал казах без акцента. — Думал, может, Альбина у вас сидит?
— А че ты, какую манду, ищешь ее? — отозвалась баба Катя.
Все усмехнулись.
— Издевацца не надо, а.
— О-ой…
— Корову мне самому, что ль, доить?
— Дои, не развалисси.
Кузьма Николаич смотрел на Амантая с радостью, словно увидел родное лицо.
— Ну, ясно, ясно, Амантай, кантуй отсюда! — занервничал Петр.
— А у вас праздник че? Может, тоже нальете, кроме шутки?
— У нас в Казахстане уважают гостей, да Амантай? — радостно заметил Кузьма Николаич.
— А-а, — Петр махнул рукой, выпил и ушел в темноту.
— У ты деловый какой… Повезло те, у нас гость, — сказала баба Катя. — Налейте, главно дело.
Амантаю налили, и он так и висел на заборе со стаканом.
— Ну, за встречку. Аман жол, с приездом, скажем так! — казах радостно и нетерпеливо поднял стакан.
— Подожди! — вскрикнула баба Катя. — Люди какие-то шаляй-валяй, спаси бох!
— Что-то главное, на чем и держится все в этом мире, не забывается, — закончил Димка. — И я так рад, что еще живы люди детства моего — дед, баба Катя, дай бог здоровья вам всем, благополучия и долгих лет жизни.
— Федя, баурсак возьми.
— Опырмай! — крякнул казах и смачно выпил.
Выпили и все остальные. Даже баба Катя.
— Ты, Федь, завтра с Кузьмой Николаичем езжай порыбачить, — предложила она. — С утра собирацца, он рыбные места знат.
— В лунном сиянье снег серебрится. Вдоль по дорожке троечка мчится…
— Айда щас поедем?! — тряхнул земляной кепкой Кузьма Николаич.
— Ты говорил, у тебя тормоза не работают?
— Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит…
— Маш, ну посиди ты со своим динь-динь-динь! А че нам щас ночью тормоза?
— Дураки, подлинно дураки, спаси бох!.. Тонь, лучку нарви.
Вдруг взревел баян. На порог вышел Петр в трусах и запел, картинно растянув меха в полный размах рук.
— Я помню тот Ванинский порт! И вид пароходов угрюмый! Когда шли по трапу на борт — в холодные мрачные трюмы.
Под забором затрещали кусты. Амантай вдруг сморщился, завопил и сорвался.
— Анандахны сыгыйн! — ругалась в темноте женщина. — Ультрем, нах!
— Кой, кой жиндэ! — по-детски кричал Амантай. — Уй, уй-ба-я-яй!
— Кет, кет, беспредельщик!
Их голоса затихли в темноте. Сидящие посматривали друг на друга и грустно приподнимали брови.
Все разваливалось в деревне, все разваливалось в этом дворе, все разваливалось и в компании. Здесь каждый был сам по себе, и каждый по отдельности нес какую-то бессмысленную чепуху, а общего и осмысленного не получалось.
Баба Катя смотрела на Димку и качала головой. “Вот такие, Федь, пироги, сам видишь”, — казалось, говорила она.