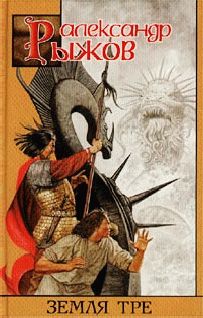Потом магия его прозы ослабела. Осталась лишь поэма «Старик и море».
Но не так давно вдруг взялся полистать «Фиесту» — и запоем перечитал, удивляясь непреходящей бодрости и свежести.
Прошлое уже немыслимо без него. Значит, и будущее.
Против унынияОсень, начавшаяся под знаком поэзии странного ирландца, анахорета из средневековой башни, мифотворца и идеалиста, продолжается. В сумерках особенно бодрят вот эти ясные и крепкие строфы, напомнившие мне еще одну светлую вещь — повесть Гессе «Последнее лето Клингзора», хотя там все заканчивается и вовсе не весело. Но улыбка, смех, о которых говорил Гессе в другой книге — в «Степном волке» — роднит эти вещи и помогает здесь и сейчас не унывать.
ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ (Гарри Клифтону)
Я слышал, нервные дамы злятся,
Что, мол, поэты — странный народ:
Непонятно, с чего они веселятся,
Когда всем понятно, в какой мы год
Живем и чем в атмосфере пахнет;
От бомбардировок смех не спасет;
Дождутся они — налетит, бабахнет
И все на кирпичики разнесет.
Каждый играет свою трагедию:
Вот Гамлет с книгой, с посохом
Лир, Это — Офелия, а это Корделия,
И пусть к развязке движется мир
И звездный занавес готов опуститься —
Но если их роль важна и видна,
Они не станут хныкать и суетиться,
Но доиграют достойно финал.
Гамлет и Лир — веселые люди,
Потому что смех сильнее, чем страх;
Они знают, что хуже уже не будет,
Пусть гаснет свет, и гроза впотьмах
Полыхает, и буря с безумным воем
Налетает, чтоб сокрушить помост,—
Переиродить Ирода не дано им,
Ибо это — трагедия в полный рост.
Приплыли морем, пришли пешком,
На верблюдах приехали и на ослах
Древние цивилизации, огнем и мечом
Истребленные, обращенные в прах,
Из статуй, что Каллимах воздвиг,
До нас не дошло ни одной, а грек
Смотрел на мраморные складки туник
И чувствовал ветер морской и бег.
Его светильника бронзовый ствол
И года не простояв, был разбит.
Все гибнет — творенье и мастерство,
Но мастер весел, пока творит.
Гляжу на резную ляпис-лазурь:
Два старца к вершине на полпути;
Слуга карабкается внизу,
Над ними — тощая цапля летит.
Слуга несет флягу с вином
И лютню китайскую на ремне.
Каждое на камне пятно,
Каждая трещина на крутизне
Мне кажутся пропастью или лавиной
Готовой со скал обрушить снег, —
Хотя обязательно веточка сливы
Украшает домик, где ждет их ночлег.
Они взбираются все выше и выше,
И вот наконец осилен путь
И можно с вершины горы, как с крыши,
Всю сцену трагическую оглянуть.
Чуткие пальцы трогают струны,
Печальных требует слух утех.
Но в сетке морщин глаза их юны,
В зрачках их древних мерцает смех.
Товарищ отправился по делам в Москву, я с ним доехал до Гагарина, вышел. В потемках полез по железнодорожному мосту, сыро, раннее ноябрьское утро, ни один фонарь не освещает раздолбанных ступенек; наткнулся на сооружение из труб: ремонт. Протиснулся дальше. Тут же на мосту спал сидя возле клетчатых баулов какой-то странник с налипшей на башмаки глиной, — даже в темноте было видно, глина светлая. Спустился, направился дальше к церкви с ведром и лопатой, там горел единственный фонарь. Белели стены среди черных древесных стволов. Прошел мимо оградок, отыскал могилы тестя и тещи, надо было их подправить. Сухие черные травы были выше меня. Никак не получалось сюда поехать… Или все-таки не так уж и хотелось. Да и были надежды на москвичей, каждую субботу приезжающих сюда, в деревню, — электричка останавливается рядом.
Стало ясно, что без рукавиц не обойтись. А где взять?
Со стороны железнодорожного моста вдруг донесся дикий вопль. Повторился. Стонущий, мучительный, злобный. А, тот странник, видимо, очнулся, обнаружил себя на каком-то мосту в измороси, с разламывающейся башкой — или что там у него разваливалось, ныло, саднило… «Ааа, рррыы-оо!» — снова в ярости завопил он.
Над кладбищем деревья строго молчали, клонили осенние ветви.
Зашел в железнодорожную будку, дежурный в оранжевой безрукавке в ответ на мою просьбу протянул брезентовые рукавицы в мазуте, от денег отказался, но я оставил на тумбочке, мол, ладно, просто помяни.
В разгар работы — я таскал песок — появилась смотрительница из дома, стоящего рядом с церковью, в теплом старомодном платке, в допотопном пальто. Она была немного не в себе, я ее видел раньше, на похоронах. Она стала рассуждать о нижней перекладине креста, мол, ее не должно быть, только средняя и верхняя вместо таблички, на коей были слова: Царь Иудейский… и т. д. Я помалкивал. Поговорив, женщина ушла, пообещала помянуть на службе усопших. Уже совсем развиднелось. Павел Петрович вопрошающе взирал с круглого портрета. Моросило. Нежно позванивали снегири. Я вспоминал наши прения за чаем в деревне, где он учительствовал. Таких собеседников у меня уже больше не будет. Каждый человек — это беседа. С его уходом и беседа прекращается. Но некоторые беседы, безвозвратно закончившиеся, томят тебя долго, наверное, всю жизнь. И все-таки продолжаются?.. Нет, это уже монологи. Как вот и этот. Монологи, сны, обрывки прошлого, — наши мертвецы с нами.
Прибегали пугливые собаки, искали чем-нибудь разжиться.
Все сделал, купил в ларьке сока, напился, положил лопату на плечо, — ведро сначала на нее и повесил, но потом взял в руку, — пошел по Старой смоленской дороге, здесь она проходила у тогдашнего Гжатска. В лесу по обеим сторонам стояла вода. Дошагал до памятника в поле среди черноствольных лип: солдата со склоненным знаменем. Здесь поблизости разбомбили госпиталь. Бабы хоронили людей, а над каждой могилой сажали березу. В черненковские годы пришли мелиораторы и попилили березы. С одной женщиной, сажавшей эти березы, я разговаривал в ее доме. У нее с этой дорогой связана удивительная история, приключившаяся после войны. Осталась она одна, муж погиб, в хате дети, есть нечего. И вот взяла она из-под курицы сколько-то яиц, в узел завязала и пошла в город, решила обменять на хлеб. Шла еле-еле, на середине дороги присела на обочину отдохнуть — и приснула. Глаза открыла и сразу почувствовала — чем-то пахнет, свежим чем-то. Поднялась, смотрит: в траве рядом лежат две рыбы.
А там рядом речка Малая Гжать. И ручей еще ближе, камыши, мосток. Перед ним она и спала.
Я не решился уточнять детали.
Жила она в деревне Костивцы, откуда родом и моя жена. Которая, кстати, родилась прямо здесь, на этой же дороге.
Люблю эти места, даже поздним ноябрем в них есть особенная плавность, в линиях полей, в черноте лип. Хотя и печаль. Но печаль неизбежна.
ХаронСо Старой смоленской дороги перешел я на трассу Москва-Минск, возле кафе мы условились с товарищем о встрече, он должен был вечером ехать назад из Москвы. Прислонил лопату к стенке дома, поставил ведро, купил котлету с хлебом, что-то еще, горячий кофе, стоял за столиком на улице, ел, поглядывал на мчащиеся мощно грузовики и легковушки — мчащиеся на смертельной скорости. Мимо прошел детина в толстой кожанке, в ушанке со звездочкой, усатый, седой. Что-то знакомое почудилось в нем. Идет обратно. П. Б.! Обнялись. Когда-то — двадцать лет примерно назад — он здесь учительствовал, приходил к тестю, директору школы, так мы и познакомились. Историк. А сейчас на трассе торгует рыбой: вяленой, копченой, соленой, — здесь, возле заправки и кафе с десяток этих рыбных палаток, самостийных: деревянный каркас, обтянутый целлофаном, брезентом. Он только торгует, а хозяин занимается всем остальным: закупает рыбу, коптит и т. д. Работает по 12 часов. Заработок? Когда как. Бывает, 20 рэ, а в другой день — 500. Покупают и иностранцы. Вообще странные люди. В магазинах та же рыба, только чище, не висит днями на солнце и ветру, в парах бензина. Но им-то, видно, кажется, что тут какая-то особая рыба, свежак — где-то вот за этими лесами, в каких-то озерах и выловленная, и сами продавцы похожи на рыбаков и рыбачек: обветренные, в толстых одеждах, с деревенскими грубыми лицами. (Одна рыбачка, поддатая, синеглазая, краснощекая все хотела угостить меня водочкой; я хоть и продрог, но угощаться не стал.)
П. Б. рассказывал о себе.
Вообще он одержим с юности. Ищет прах солдат Великой Отечественной. Сообщает родным. Профессионал, — его приглашают в различные регионы, был он на юге, в степях, жил в палатке, получал 300 рублей в день. Я поглядывал внимательно на П.Б. Спокоен, пристальный взгляд; половины передних верхних зубов нет; крепок, высок. Ему лет сорок с лишним. Тоже взял кофе. И мы пили, разговаривали под рев и шуршание железной реки. П. Б. признался, что когда начинаешь копать, уже зная, что это захоронение, тебя бьет дрожь. Сильная.