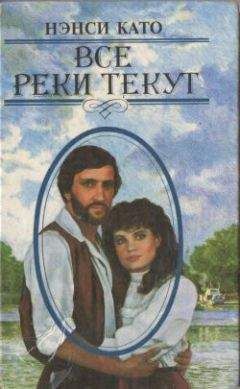— Рисково, — заметил Павел Кириллович.
— Конечно, рисково. А делать надо. Я вчерась у них была, глядела. Руками его нипочем не возьмешь.
— Я же им говорила, — раздался голос Лушки, — а они не верят.
— Эй вы, слушайте! — крикнул Павел Кириллович.
Ребята молчали.
— Да подойдите сюда. Не бойтесь. Давайте завтра попробуем. Коли что, я отвечаю.
Поговорив немного, ребята разошлись спать, сомневаясь в этой затее.
Пошел спать и Павел Кириллович.
Мария Тихоновна посидела немного у окна, прислушивалась. Ей показалось, что кто-то остался у бревна. Но кругом было тихо, за рекой по-птичьи кричали лягушки украдкой шелестели молодые листья берез. Мария Тихоновна перекрестилась, осторожно — створку за створкой — затворила окно и пошла в хлев поглядеть корову. Все равно, ночь разменяла — теперь не уснуть.
А на бревне сидела Лена.
«Надо бы поговорить с тетей Дашей, — думала она, — очень это ненадежная затея. А еще лучше было бы поговорить с Петром Михайловичем. Почему он не заедет хоть в воскресенье? У них, в городе, в воскресенье не работают. Почему он не пришлет хоть коротенькое письмо? Или забыл он о нас? Или неинтересно ему стало все, что мы тут делаем? Или, может, совестно ему за то, что его сняли? Где он сейчас? Спит ли? Работает? Или смотрит так же, как и я, на эту кривую, худенькую луну?..».
А на двадцать четвертого мая пустили культиватор. На следующий день овсюг ослаб, а еще через день увял и засох совсем. Пшеница почувствовала простор, дружно и быстро, как на дрожжах, пошла в рост.
Чем выше поднималась пшеница, тем чаще стали приходить колхозники из других бригад. Всем вдруг захотелось хоть что-нибудь сделать на этом участке, приложить и свои руки к этакой красоте. Приходила и Мария Тихоновна, советовала дельное.
Но Лену вдруг обуяла ревность и недовольство — чувства, похожие на те, какие бывают у матери, когда чужие люди, пытаются воспитывать ее любимого ребенка, и она никому, кроме своих комсомольцев да еще разве председателя, не давала пальцем дотронуться до своей земли и не любила, когда кто-нибудь напрашивался пособить.
В июне пшеница выколосилась и стала наливаться зерном.
Старший агроном МТС приезжал, считал зерна в колосе и ахал. Мария Тихоновна стала завидовать — это заметили все, даже дедушка Анисим.
Но Лена ни на что не обращала внимания. Часто после работы, когда все уходили в деревню, она оставалась в поле и стояла неподвижно до самых сумерек, не в силах оторвать глаз от золотистого моря колосьев.
О чем она думала в эти часы? Она думала о том, что на будущий год колхоз засеет все свои поля по-новому, думала о том, как обрадуется Петр Михайлович, как подойдет к ней, поблагодарит, как его назначат самым что ни на есть главным агрономом во всем районе…
Она думала обо всем этом и не знала, что на нежные, не окрепшие еще стебли скоро обрушится страшная беда.
Лена проснулась ночью от духоты. Она открыла окно. Занавеска, сбив с подоконника жестяную банку, взлетела вверх и захлопала.
Куда-то в поля, за сараи, как груженые баржи, плыли низкие угрюмые тучи. Соседняя изба, плетень, одинокая осина смутно чернели в темноте. По двору дул порывистый ветер, и осина шумела так, словно листва ее кипела.
Надвигалась гроза.
Через несколько минут ветер утих, и Лена услышала, как в сенях сонно и робко по очереди квохчут проснувшиеся куры. Потом стало слышно, как к избе подкрадывается дождь. Вот он зашуршал по соломенной крыше дальнего сарая, вот перешел через дорогу, вот ударил по ступеням и наконец, захватив весь двор, стал набирать силу. Возле крыльца забулькало, зажурчало, застучало, с улицы пахнуло сырой землей, и сразу стало прохладно.
Вдруг воздух на дворе судорожно вспыхнул, осветилась осина с белыми как мел листьями и трава возле осины, тоже белая как мел и сверкнули косые и упругие прутья ливня. Потом снова наступила мутная темень, и где-то за сараями, по земле, неохотно прогрохотал гром.
Ливень свистел. Среди шума и хлюпанья воды Лена стала различать стук, не похожий на туканье капель. Стук был сухой и мертвый, словно кто-то ударял по ступенькам костяшкой пальца. Лена выглянула в окно. Шел град. Белые градины падали на крыльцо, подскакивали, как мячики, и, словно живые, сбегались в кучки.
— Мама! — закричала Лена.
— Ты все не спишь? — поднимая голову, ответила Пелагея Марковна. — Что еще?
— Мама! Вставай! Град!
Пелагея Марковна вскочила с постели, подбежала к окну, кое-как поймала занавеску и стала молча глядеть на небо.
— Что теперь делать, мама?
— А ты не убивайся прежде времени. Это разве град — меньше горошины! Гляди, на небе светлая лужайка, скоро развидняется… Мимо идет градобойница, не тронет хлебушка…
Пелагея Марковна долго и неподвижно стояла у окна и смотрела на небо, и чем дольше она стояла и чем дольше молчала, тем страшнее делалось Лене.
— Мама, я схожу, — наконец сказала она.
— Да куда ты пойдешь в этакую ночь?..
— Нет, не могу я так. Пойду погляжу, хоть знать буду. — И Лена стала торопливо одеваться.
Между тем градины становились все больше и больше, и некоторые из них были с голубиное яйцо.
Когда Лена повязывалась платком, в сенях послышались шаги. Дверь отворилась, и в комнату вошел Анисим в тулупе, накинутом на голову.
— Лена тут? — сказал он, бросая тулуп в угол. — Лена, как же это… Это как допустить этакое… Ты на поле не была?
— Иду сейчас.
— Так и меня возьми. Гришка побег, да где мне за ним угнаться. А одному боязно. Робею я грозы-то…
— Сидел бы ты, дед, — сказала Пелагея Марковна, — Обожди, поутихнет.
— Как же усидеть? А может, мы там что и сделаем. — Анисим беспомощно развел руками. — Вот раньше помело за окно кидали, чтобы град кончился. — И он как-то невесело рассмеялся. — Несознательный был народ…
За окном послышался стук копыт. Кто-то спрыгнул возле избы и быстро вошел в сени.
— Председатель, — сказал Анисим прислушиваясь к шагам.
И правда, Павел Кириллович вошел в комнату. Был он весь мокрый, и штанины его, когда он шагал, чиркали одна о другую, как брезентовые.
— Чего не спите? — спросил он сердито, — Чего не спишь, Ленка?
— Я на участок пойду.
— Запрещаю тебе ходить, — сказал Павел Кириллович, глядя в ноги. — Ты ее не пускай, Марковна.
— А разве ее удержишь?
— А я говорю, не пускай!
— А что там, — закричала Лена, — побило, Павел Кириллович?
Председатель поднял на нее глаза.
— Ложись-ка ты, Ленка, — сказал он наконец, — ложись, дочка. Я еще там не был. Съезжу сейчас и расскажу. Может, и мимо пронесло. А ты ложись, чего тебе мокнуть. И ты бы спал, старый. Что вы все ровно с ума посходили?
Павел Кириллович круто повернулся и вышел. Лена побежала за ним. Пелагея Марковна бросилась за дочерью.
У крыльца стоял Валет и вздрагивал от падавших на него градин. Вдруг он метнулся вбок. Из окна высунулось помело и шлепнулось в лужу.
Снова поднялся ветер, и водяные прутья косо хлестали по стене избы.
— Куда выбегла? — сказал Павел Кириллович, схватив Валета за гриву и, подтянувшись, сел верхом. — Иди домой…
— А вы скоро? — отступая в сени, крикнула Лена.
— Через десять минут. — И председатель, шлепнув ладонью по мокрому крупу лошади, поскакал.
Лена и Пелагея Марковна вернулись в избу, Анисим с виноватым видом сидел у печи.
— Не взял? — спросил он Лену.
— Сейчас воротится — все узнаем.
Так они сидели молча, как перед отъездом, сидели пять минут, десять, пятнадцать, прислушиваясь к шуму дождя, и бледные молнии освещали их. Павел Кириллович не возвращался. Через полчаса Лена, потеряв терпение, стала снова одеваться и повязывать платок.
— Никак едет? — оказала Пелагея Марковна.
Лена бросилась к окну. Дождь все еще шел, мелкий, противный.
Посреди дороги шагом ехал Павел Кириллович на своем Валете. Он проехал мимо избы Лены, даже не взглянув на окна, и скоро расплылся вместе с лошадью в хмуром дождевом тумане.
— Мама, все побило, все побило! — крикнула Лена и упала лицом в подушку.
В один из ярких летних дней Анисим вышел из своей избы и, прищурившись, поглядел на Медведицу.
Река искрилась.
На скамье сидел Огарушек и ел землянику, выбирая ее из берестяного лукошка. Пальцы его были розовые, и на них налипли похожие на звездочки земляничные листочки.
— Вкусно? — спросил Анисим.
— У нас в Великих Луках ягоды лучше, — ответил Огарушек.
— Знаю я, какая у вас ягода. Ты бы вот здешней малины отведал. Нет нигде такой малины, как у нас на свежих вырубках. Жирная ягода. Ее медведи страсть любят.
— Кто-то паром кличет, дедушка, — сказал Огарушек.