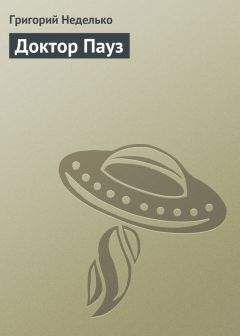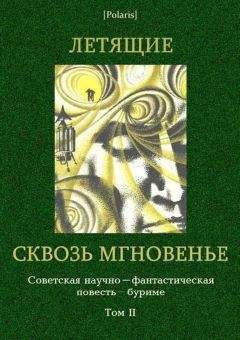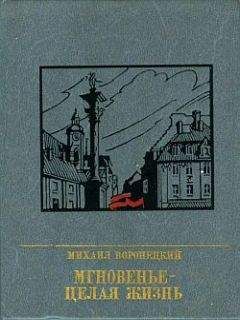– Чего-то у них там не то! – переключая скорость, высказывает подозрение Сукин. – Кучерявое опять что-нибудь.
Л. В. снимает из-за ушей рогульку фонендоскопа и перебрасывает его хомутиком через шею. Чупахину тоже как-то не по себе.
У гаражной двери с нарисованной белой краской цифрой «6» стоит-притаилась, точно акула, светлосерая приземистая иномарка.
На звук глохнущего мотора из гаража выходит изысканно одетый джентльмен с пузцом и, заземляя возможный энтузиазм, неподвижно ждет их у двери без малейших признаков нетерпения. Это педиатр из первой смены, приятель Толи Стрюцкова и в придачу по второй с некоторых пор профессии – предприниматель-бизнесмен.
– Можете не спешить, – через голову Чупахина обращается он к Л. В. – Он, Толя, там... в машине.
В новенькой своей девятке посреди гаража, уронив на руль голову, сидит мертвый Толя Стрюцков – Чупахин мгновенно узнает желтовато-белесую его стрижку.
– Мотор я выключил, – сообщает педиатр деловым нейтральным голосом. – Менты просили после констатации в судебный отвезти.
Сквозь отворенную дверцу Люба кладет на Толину шею руку: подушечками пальцев проверяет пульс на сонной артерии. Потом по-сестрински, по-матерински раз и другой гладит по светлому замершему затылку.
К рулю приколота записка: «Врач „скорой помощи“, если мертвый, выключи мотор».
Рядом на пустующем сиденье пустая пачка сигарет, потертый бумажник и бумажная маленькая иконка Иверской Божией матери.
Правой рукой Чупахин обнимает, наваливает Толю на себя, а левую подводит под согнутые застывшие колени. Компактный, разве чуть грузноватый на вид Толя необъяснимо, почти неподъемно сейчас тяжел.
Педиатр-предприниматель закрывает, запирает гаражную дверь. Ключи, оповещает он Любу, он сам отвезет в милицию.
В салоне они едут с мертвым Толей вдвоем. Чупахин перебирает взявшиеся у него откуда-то документы. С паспортной фотографии глядит сюда эдакий юный деревенский ухарь. По лбу изогнутая как-то по-особому челка, в маленьких, как бы смазанных глазах затаенно-застенчивое вопрошающее веселье: а чего, мол, ребята, неуж не прорвемся?
В огромном по-казенному холодном зале судебно-медицинского морга с дежурным мужиком перекладывают они его с носилок на освободившийся деревянный лежак.
Лицо у Толи похорошело и расправилось, быть может, он видит сейчас какие-то прекрасные, непостижимые для остающегося Чупахина сны, а возможно, дело обстоит еще как-нибудь иначе... Рвались вот, да не прорвались!
* * *
Здесь я
непостижимое постиг.
Прекрасны ночи.
И прекрасны дни.
Прошел двор, арку и по чистому, подмерзшему за ночь асфальту двинулся привычным маршрутом. Домой.
– Константин Тимофеич, минуточку! – окликнули его. – Господин Чупахин! Товарищ санитар...
Голос был ее, тот самый, и это она неслышно и споро бежала к нему в черном с развевающимися полами пальто.
Он остановился и, раз остановился, закурил, ну, а коли окликнули, ждал.
– «Костю кузовом задели. В Косте кости загудели!»[9] Угадала? – она слегка запыхалась, но говорила легко, с улыбкой, без обыкновенной между ними неловкости. – Вы ведь не попрощались со мной, не стыдно?
Он, не улыбаясь ответно, пожал плечами и выжидающе смотрел на нее. Кости у него и впрямь немножечко гудели, а стишок был по совпадению знаком.
Вернувшись вчера после морга на станцию и ночью потом лежа рядом с пустующим топчаном Толи, он в первый раз, пожалуй, трезво задумался о себе: кто он и почему такой, каким оказался чуть не на старости лет, – и испытал нечто вроде горького облегчения, когда решил забыть великолепную Любовь Владимировну и все дальнейшие в этом роде поползновения... Что же делать, но ведь он, похоже, банкрот, ослабевший нищий эгоист-неудачник, и ему ли, такому, осчастливливать молодых женщин?! Нет, не ему, конечно же, и слава богу, не ему! Не ему...
И, однако, они вот шли рядом, плечо в плечо, и Чупахину было хорошо известно, что, по меньшей мере до моста через Долю, им, что называется, по пути.
– Вы, верно, обо мне бог знает что думаете? – вздохнула она.
Он опять поднял было плечи: что, дескать, и ответить тут? – а затем, сюрпризом для себя, брякнул-ляпнул вовсе ни к селу ни к городу:
– Я думаю, вы мне снитесь, Любовь Владимировна!
Она серебристо и коротко, но как-то не до конца убедительно рассмеялась.
– Давайте-ка я вот так... – взяла под руку его, – а ну-ка, раз, раз, раз... – пытаясь подстроить шаг под тяжелую чупахинскую поступь.
И, заметно тоже волнуясь, будто торопясь успеть к сроку, поделилась с ним «некоторыми соображениями».
Вот, сказала она, у Беранже: «Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» Ей давно хотелось спросить у Чупахина – как ему сия мысль? Согласен он, Чупахин? Или нет? Ведь это, ей-то кажется, это и есть зарыть талант в землю, сиречь выживать и сдаться, что, помимо прочего, куда и тяжелей на круг, нежели жить...
– Легко сказать, – процедил Чупахин едва слышно. – И где тут граница между жить и выживать? И вообще...
Она покосилась, хотела что-то добавить и разъяснить, видно, но чуть-чуть усмехнулась только уголком рта.
А Чупахину вспомнилась фотография Толи Стрюцкова: «Рвались, да не прорвались...» – и следом – заключительная фаза колодеевской повести: «Где-то милиционеры гнали Ваньку, не сумевшего прорваться сквозь наше детство...»
И кто прорвался, кто не прорвался куда? Этот блатарь Ванька, дружок Колодея, из детства. Сам Коля – из западни коммунистической ереси. Толя Стрюцков – из неразрешимости личной жизни. А он, Чупахин, – из... из...
«Ну что ж, солдат не виноват. Душа солдата виновата...»
Впереди, за сбавляющими скорость автомобилями, за утренними малочисленными прохожими завиднелся знакомый парапет. До реки оставалось метров шестьдесят.
И бывший старпом с северных морей не решил вопроса. И Ирина Ким Бейсинджер... И та, последняя Чупахина капля, съехавшая с ума от страха за детей толстуха-мать...
– Пушкин в наслажденье тем, что гибелью грозит, допускал «бессмертья, может быть, залог», – возобновила беседу сопутствующая Чупахину женщина, – а мне, знаете, куда больше видится этого залога в лицах спящих. Они спят, а душа их далеко, где-то на Божиих, быть может, пажитях... В селениях праведных... Я и про метапсихоз задумалась в первый раз, когда на спящего Васю моего смотрела... Нет, правда! Вы не смейтесь, Костя. Ведь мы ничего толком не знаем ни о чем. Ни вы, ни я.
– Ну вы-то, положим... – бормотнул было Чупахин с досадой, но опомнился, оборвал на полуслове. – От животного ярого эгоизма – к святости, – поправляя дело, поспешил спросить он, – здесь магистраль-то у вас? Страданья, непопаданья... Преображенье... Это? Так, кажется?
Она с некоторым трудом, но улыбнулась ему.
– А вы готовы признать, что жизнь – «пустая и глупая шутка»? – возразила она. И вдруг поскользнулась, повисла с секунду на его руке; но справилась и продолжала: – Очень и очень вероятно, что так оно и есть, святость, что тяжесть, плотность, грязь, муть, полупрозрачность, чистота, свет... И это для всех без исключения. А вы потому и иронизируете, что на себя злитесь. Отчаиваетесь!
Переждав две-три легковушки, они перешли на правую сторону и взошли на мост.
Ближе к стрежу вода в реке крупно рябилась, кой-где даже пенилась от несильного встречного ветра. У берега настывал голубовато-станиолевый, похожий на бескровные голые десны старика, лед.
«Нет, не пойду я с тобой, сероглазая, – вспомнилась Чупахину старая общежитская песня, – счастья искать, чтобы горе найти...»
Где-то на середине моста они, не сговариваясь, остановились и, положив руки на перила, повернулись лицами к реке. На секунду Чупахину показалось, что спутница его исчезла.
– И куда вы теперь? – услышал он потом странный этот ее голос. – В бизнесмены подадитесь? – и, не дождавшись ответа, сняла одну из перчаток, чтобы нахлобучить поглубже капюшон пальто.
Можно было взять ее руку в свою, осторожно повернуть к себе и поцеловать в теплые и, он знал, дрогнувшие бы навстречу губы... Невыносимо, терпимо все-таки, неплохо, хорошо, прекрасно, замечательно! Все ведь и было в какой-то миллиметровой дольке градуса, критической массе. И была ли она, женщина, существовала ли в яви или только пригрезилась Чупахину с тоски, – по большому, по настоящему-то счету решающего значения не имело. Дело было в нем, в его способе понимать вещи, в его душе.
Вот и всё, думал он, вот и все. Всё.
По пешеходной дорожке позади шли люди, шуршали машины насыпанным поутру песочком от гололеда, проехала, быть может, «скорая» на какой-нибудь неведомый вызов, а он, Чупахин, стоял и стоял у парапета, не сдвигаясь и не уходя, смотрел и вглядывался в холодную бегущую под ним воду.
Примечания.
В эпиграфах использованы произведения Ду Фу, Софокла, «Песни царства Вэй», Андрея Платонова, опера «Кармен», бл. Августина, Дж. Конрада, Ван Гога, Иоанна Богослова (Иоанн 16, 13–23), Басё, Блеза Паскаля, Ген. Шпаликова, Осии (Ос. 5, 4), Готфрида Бенна, древнерусского плача.