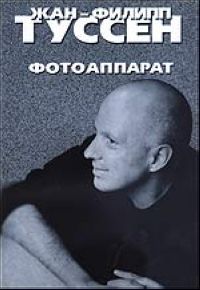По огромному пустому выставочному залу Мари шла одна, на несколько метров впереди всех, в длинном черном кожаном пальто, в поднятых на лоб солнечных очках, с еженедельником в руке. В определенном смысле она добилась чего хотела, окружила себя тишиной и почтением, необходимыми ей для сосредоточенной работы, добилась слезами и сухостью тона, а не улыбкой превосходства, какой она обычно осаживала собеседников (улыбка, понятно, действовала эффективнее, но использовать ее сегодня Мари недоставало сил или, может, гибкости), и результат был налицо, все держались настороже, никто не осмеливался к ней подступиться или заговорить, она погрузилась в свои мысли, как если бы находилась в музее одна. Мы следовали за ней на расстоянии, разговаривали вполголоса, скованные и пустотой просторных залов, где гулко отдавались наши шаги по паркету, и исходящими от Мари силой, решительностью и тишиной. Выставочные помещения музея общей площадью около трехсот метров состояли из четырех залов (A, B, C, D) различной формы: два прямоугольных, один пятиугольный и еще один восьмиугольный, самый маленький занимал шестьдесят квадратных метров, самый большой — сто десять. Белые совершенно пустые, ошарашивающие своей обнаженностью залы купались в каком-то туманном свете, проникавшем через узкие отверстия в крыше, сквозь которые проглядывало бурное, серое, в теснящихся дождевых тучах небо. Слабость естественного освещения восполнялась искусственным: замысловатые приспособления в виде ряда подвижных прозрачных цилиндров, укрепленные на верхней части карниза, излучали теплый янтарный свет, какой бывает у национальных японских фонарей.
Мари остановилась в центре самого большого зала. Вынула листочек из еженедельника и, используя последний как пюпитр, одна среди белых стен (только я приблизился к ней на несколько шагов, прочие же, потоптавшись на пороге, развернулись и оставили ее работать), принялась чертить общий план музея, прямоугольники залов и еще непонятные мне квадратики и стрелочки. Время от времени она поднимала голову, что-то обдумывала, вглядывалась в голые стены, словно бы черпая из них вдохновение, и дополняла свой эскиз, проводила стрелки, писала слова заглавными буквами и подчеркивала где однократно, а где двойной линией. Я вышел из зала и в холле догнал нашу группу. Директор пригласил нас подняться на второй этаж, по стеклянному переходу над холлом мы добрались до не поддающейся описанию комнаты, где хранилось необъятное и невидимое собрание выставочных каталогов и художественных журналов, упрятанных в продолговатые японские ящички из белого дерева, которые директор устало вытаскивал один за другим, объясняя нам попутно, что в них лежит. Я глядел, как он движениями ленивого фокусника открывает и закрывает ящики, и думал о другом (я устал, меня познабливало).
Мы вернулись в гостиную, с которой начали свой визит, кто-то сел выпить еще чаю и поговорить, кто-то остался стоять, задумчиво листая каталоги. Я расхаживал туда-сюда, разглядывал афиши выставок, потом сунул нос в комнату видеонаблюдения, где спиной ко мне сидел за компьютером молодой человек В темном помещении светились лишь сигнальные лампочки и пульты управления, оно напоминало студию миксажа или мультимедийного монтажа, на экранах полутора десятков камер застыли сероватые черно-белые картинки. Приглядевшись, я разобрался, что верхний ряд экранов соотносится с камерами, охватывающими ближние подступы к музею, две из них, установленные на воротах, снимали туманный, словно заснеженный вид спускающейся к озеру тропы, две другие помещались возле входной двери, одна — объективом к сникшему от дождя парку, другая — в черный мраморный холл, последняя фиксировала лишенные жизни кадры, какие нередко получаются при съемках с высокой точки, когда в персонажах нам чудятся будущие жертвы и потенциальные покойники.
Следующий ряд экранов поражал строгостью изображения, на всех восьми мониторах светилась ярко-белая, гипнотизирующе монохромная на первый взгляд картинка, на которой при ближайшем рассмотрении угадывались линии углов и плинтусов и распознавались в одноцветных квадратах разноплановые виды пустых выставочных залов музея. Я неотрывно смотрел на белый, слегка искрящийся ряд и вдруг увидел Мари — одинокий силуэт, медленно движущийся передо мной по экрану. В черном пальто на белом фоне она плыла, словно в невесомости, с монитора на монитор, исчезнув с одного, выныривала на другом. Иногда она на секунду появлялась на двух экранах сразу, а в следующую секунду оказывалось, что ее нет ни на одном, она пропадала, и я немедленно ощущал что-то похожее на боль, я скучал по Мари, мне ее не хватало, хотелось увидеть ее снова. И тогда она возникала в кадре, останавливалась посреди зала. Я вошел в комнату, приблизился к экрану вплотную, уставившись на его электронное сияние с расстояния в несколько сантиметров, и увидел, как Мари повернулась в мою сторону, безразлично посмотрела на камеру наблюдения, взгляды наши на мгновение встретились, но она этого не знала, не заметила, и я словно бы визуально убедился, что между нами все кончено.
Из зала наблюдения я вышел шатаясь, кружилась голова. Щипало веки от того, что я так долго смотрел на экран в упор, в глазах стояло белое свечение; я подошел к представительнице французского посольства, попросил вызвать мне такси. Вероятно, у меня был бледный вид, и она поинтересовалась, хорошо ли я себя чувствую, а я ответил — нет, дескать, чувствую себя плохо, устал, разница во времени, предпочитаю вернуться в гостиницу и отдохнуть, после чего плюхнулся в кресло и сидел не шевелясь, пропотев насквозь в толстом черно-сером пальто. Окружающие поглядывали на меня украдкой. Наша юная француженка вернулась, сообщила, что такси вызвали и оно сейчас прибудет, спросила, не проводить ли меня. Я слабо кивнул в том смысле, что это было бы очень мило с ее стороны. Мы вместе вышли из музея и под проливным дождем поднялись по тропинке к паркингу. Паркинг был пуст, ничего, кроме громадных луж, взбаламученных потоками дождя и порывами ветра. Такси же нерешительно кружило под ливнем чуть в стороне. Моя сопровождающая в длинном мокром пальто решительно направилась к нему, размахивая руками, а когда оно остановилось под деревом и я уселся, что-то сказала водителю по-японски. Машина тронулась, и, обернувшись, я увидел в затуманенное заднее стекло одинокую женскую фигуру под дождем. Я еще не знал тогда, что вижу ее в последний раз.
В гостинице я сразу же поднялся в свой номер на шестнадцатом этаже. Комнату в наше отсутствие прибрали; освобожденная от ста сорока килограммов багажа, она обрела заурядный гостиничный вид. Кровати были заправлены, шторы раздвинуты, через окно лился тусклый серый полумрак. Разбросанные на полу вещи теперь были аккуратно сложены, белые носки с красной и голубой каемочкой, которые мы побросали комочками на ковер, были подняты и почтительно разложены на туалетном столике. Жарища в номере стояла невыносимая, я выключил отопление, хотел открыть окно, но створки оказались закупоренными наглухо. Дозволялось лишь чуть опустить стекло и получить щелку в два-три сантиметра; попытался взломать запор — не вышло. В изнеможении я завалился на кровать. Пальто не снял, варился в собственном соку, меня знобило, заложило нос, я хлюпал и то и дело вставал и шел сморкаться в ванную. Когда надоело ходить взад-вперед, прихватил рулон туалетной бумаги и положил его на тумбочку. Я сморкался беспрерывно, на постели рядом со мной образовалась целая коллекция мятых клочков туалетной бумаги, горка скомканных шариков выросла на полу. Так я провел все утро. Пробовал закрыть глаза и уснуть, но не мог, сказывалось перевозбуждение. Неподвижно лежа на спине, скрестив ноги и засунув руки в карманы пальто, я смотрел в потолок и не видел перед собой никакой перспективы. Что я делаю в Токио? Ничего. Зачем я здесь? Чтобы расстаться. Но расставание, как я начинал понимать, это не действие, а состояние, не агония, а траур.
~~~
После полудня я вышел из номера, неся в руке дорожную сумку с минимумом содержимого: две рубашки, несколько футболок, несессер. Спустившись в холл, пошел менять деньги. Заполнил бланк перед окошечком обменного пункта, предъявил кредитную карту и получил двести тысяч йен наличными пачкой из двадцати новеньких, гладких десятитысячных банкнот в плотном конверте, точно соответствующем размеру купюр. Достав банкноты из конверта, я их пересчитал, перебирая пальцами мягкие, приятные на ощупь бумажки, и разбил пачку на три части: две купюры оставил под рукой, восемь заложил между страничками паспорта, а еще десять убрал обратно в конверт. Тут же в холле присел на корточки, открыл сумку и заткнул согнутый пополам конверт в одно из отделений несессера. Из отеля я вышел под дождь, отшагал минут десять по серым улицам, спустился по ступенькам ко входу в метро, удаленному на порядочное расстояние от самой станции «Синдзюку». Я отмерял километры и километры по движущимся дорожкам подземных коридоров. Вблизи вокзала толпа сделалась гуще, а я все шел и шел бесконечными сырыми переходами. Тут было подлинное царство бомжей, они сидели вдоль стен на одеялах или просто на картонках, в импровизированных палатках и на старых матрасах, замаранных жирными пятнами и подтеками мочи, на полу валялись ничьи кастрюли, веревки, сохли брюки, под ноги катились пустые банки, стояли стопки судков из-под готовых обедов «бентос», неподвижно лежали собаки в намордниках, от влажной шерсти которых поднимался пар, омерзительный запах тоннелей метро и мокрых животных ударял в нос неожиданным воспоминанием о Париже.