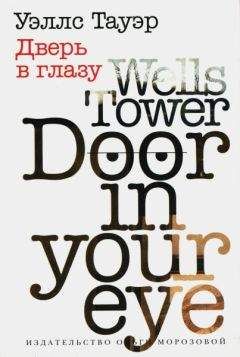Никто не мог дать внятного совета. Мы поинтересовались домами престарелых, но там были очереди на десять лет вперед — конечно, если вас не устраивал бедлам с многократно привлекавшимися за непристойное поведение.
Если не считать общения с моим отцом, Люси не работала. Жила на его сбережения. Отцу было всего шестьдесят лет, и во всех остальных отношениях он был вполне здоров. Мог поглощать наличные и неприятности еще четверть века по меньшей мере.
За окном раздался женский крик. Был четверг, вечер танцев в лесбийском баре по соседству. После танцев они обычно останавливались здесь и били друг дружку о западную стену нашего дома. Они разбивали друг дружке сердца по расписанию — всегда в этот темно-синий получас ночи. Иногда я высовывался из окна и упрощал им жизнь: кричал, чтобы могли объединиться против меня, общего врага. Но сейчас запер окно и снова улегся в постель.
— Слушай, — говорила Люси, — я думаю привезти его двадцатого. Врач сказал, ему может быть полезно посмотреть на Нью-Йорк и повидаться с тобой. Может быть, это встряхнет что-то в его голове.
Я услышал, как скребутся крысы в тонком перекрытии над кроватью.
— Люси, пожалуйста, не приезжай. Мне надо уехать по делу. Да он не помнит даже, как меня зовут.
— Нет, помнит, — сказала она. — Он про тебя спрашивал.
— Не может быть.
— Правда. Спрашивал. Вчера только. Слишком быстро выпил пиво, и ты бы только послушал его: «Бээррт, Бээрт, Бээрт».
Она не засмеялась, и я тоже.
— Не привози ты его ни хрена, — сказал я. — Что ты выдумала?
— Будь мягче, — сказала Люси и положила трубку.
Когда отец женился на Люси, мне было десять лет. Ему — сорок шесть. Ей — двадцать один; она была секретаршей в его юридической фирме и собиралась уйти, когда развернется ее актерская карьера. Ее внешность этому благоприятствовала. Она была хорошенькая, с худым большеглазым лицом того типа, вокруг которого японские аниматоры выстроили целую мифологию блуда. Мальчишкой, когда у меня еще усы не росли, я влюбился в нее по уши, и у меня была какая-то смутная уверенность, что с отцом она только временно, что он намерен когда-нибудь передать ее мне. Детали были не совсем ясны, но имелось предчувствие, что, когда мне исполнится лет шестнадцать, он вывезет меня на возвышенность в пустыне с видом на закат и объявит, что отдает мне Люси, а также свой «Форд Мустанг», ящик пива «Шлитц» и, может быть, кассету «Night Moves» Боба Сигера с его группой «Силвер буллет бэнд».
Года три они прожили душевно. Потом Люси встретила мужчину своих лет, писавшего музыку для телереклам, и уехала с ним в Квебек. Папа был в изумлении от своего горя — под пятьдесят, с седыми кустиками в ушах, он впервые узнал, что такое разбитое сердце. Это было единственное время, когда он очень старался стать моим другом. Он зазывал меня к себе в выходные. Говорил, что любовь — как ветрянка: надо переболеть ею пораньше, во взрослом возрасте от нее можно умереть. Час или два он изливал душу, а потом заставлял играть с собой в шахматы — по двадцать-тридцать партий за выходные, и я всегда проигрывал.
Только раз я его чуть не побил. Он напился коктейлей и ошибся, подставил ферзя под моего коня. Я взял фигуру, он залепил мне по губам. Я убежал в ванную и ударил себя несколько раз по лицу, чтобы остался хороший синяк. Когда я вышел, он не извинился — то есть не совсем. Но сказал, что даст мне все что угодно, если не пожалуюсь матери. Я сказал, что хочу компьютер и духовое ружье. Отец составил контракт на бланке своей фирмы, и я подписал. В тот день мы купили ружье. Я подстрелил красивую зеленую пеночку, потом гладил ее и похоронил у матери на лужайке. Потом подстрелил голубя и синицу и отдал ружье соседскому мальчишке.
Через четыре месяца Люси вернулась из Канады домой. Отец принял ее, не простив, после чего множество раз изменял ей, считая это своим долгом перед ними обоими. Он поместил ее в псевдо-тюдоровский особняк, где света не хватало даже для калькулятора на солнечных элементах. Люси впала в депрессию. Она винила свое тело и наказывала его голодными диетами и триатлоном. И в кульминации своего режима превратилась в новое существо с большой головой лемура, надетой на тело газели. Когда ее щеки зацвели поздними прыщами, она, угрожая самоубийством, заставила врача выписать ей какие-то сильнодействующие таблетки. Таблетки избавили от всех семи прыщей, но покрыли лицо от подбородка до волос тонкими малиновыми трещинками. Пришлось замазывать их таким количеством мазей и кремов, что можно было подумать, она потеет тавотом. Примерно в это время я перестал грезить о Люси, «Мустанге», тайных комнатах, переулках и об укромных лесочках.
Когда у отца стало плохо с головой, мне было за двадцать. Поначалу я думал, что отец не помнит, где я живу и что я окончил школу, — из-за углубившегося агрессивного равнодушия, с которым он всегда ко мне относился. Но оказалось, что ни один из десятка с лишним хороших неврологов не может понять, в чем дело. Это не был ни Альцгеймер, ни какая-либо из иных известных форм слабоумия.
В его памяти открылась течь и расширялась все больше — началось с недавних воспоминаний, а потом потекло из других отсеков. Спустя три года после первых симптомов он уже не мог вспомнить, что ему сказали час назад. Не мог работать, не мог найти дорогу домой из магазина, где всю жизнь покупал еду. Но способности извлечь что-то из глубин, пусть не с самого дна, не утратил. Несколько лет назад я рассказал матери, как он ударил меня из-за шахмат, — к тому времени он уже забывал мое имя. Но через несколько недель после этого я получил по почте экземпляр нашего старого контракта с чеком на 1200 долларов для приобретения компьютера и духового ружья — хотя у него хранились магазинные чеки на оба предмета.
В колледже я изучал физику, инженерное дело и промышленный дизайн. Я думал, что буду конструировать самолеты, но после окончания стал разрабатывать корпуса радиочасов в корпорации «Эмерсон». «Эмерсон» делала упор на округлость, вялость контуров, словно часы должны были ускользать от взгляда пользователя, как проскакивает в желудок лекарственное драже! Проработав шесть лет, я открыл собственное дело.
Можно сказать, что у меня был один настоящий успех — машина, которая плавила полиэтиленовые пакеты и разливала пластик по сменным формам (подставка для гольфового мяча, расческа, монтировка для велосипедных шин и т. д.). В списке экологических «зеленых подарков» в одном из главных журналов она заняла высокое место, после чего появилась в бортовых каталогах авиакомпаний и в интернет-магазинах. Я на ней не разбогател, но на плаву держался. Купил однокомнатную квартиру в Уэст-Вилледже, и на знакомых это производило впечатление, пока они не видели ее собственными глазами. Квартира представляла собой архитектурный аналог ошметков бисквитного теста — двадцать четыре квадратных метра бесполезных закутков и отнорков, оставшихся после того, как остальное здание было разделено на помещения, приспособленные для нормального житья.
В день, когда должна была приехать Люси с отцом, я зарезервировал стенд на выставке «Сервис и гостеприимство» в Уэстпорте, Коннектикут. Я отправился туда, чтобы продвинуть аппарат, который назвал «Айспрессо». В основе это был коммерческий кофейник с медной нагревательной спиралью на дне, так что вы могли налить свеже-заваренный чай в стакан, не растопив льда. Я надеялся продать патент за сотню тысяч и отбыть в Мексиканский залив, чтобы заткнуть пустоты в сердце понтонной лодкой и грудастой незнакомкой.
Весь день я варил и наливал в одноразовые стаканы «Эрл Грей» со льдом мужчинам в присборенных в поясе брюках. Свободную руку они держали в кармане, чтобы я не мог сунуть им свою карточку. После, на приеме, я постарался возместить уплаченное за стенд в бесплатном баре.
Потом вышел на танцевальную площадку и приблизился к молодой женщине.
— Пойдемте посмотрим на луну, — сказал я.
— Сейчас три часа, — сказала она.
Я пошел к поезду. Потянуло первым осенним холодком. Под стук колес я долго отогревался, нянча на коленях свой чайник.
Я получил сообщение от Люси: встретиться с ними в парке Вашингтон-сквер, где отец наблюдает за шахматами. Доехал на метро до Астор-плейс и под грузом нарастающего страха пошел налево.
Я не видел отца пятнадцать месяцев. Представлял себе, что он сидит на перилах, в сумерках, смотрит на роликобежцев, торговцев наркотиками и гитаристов, как Рип Ван Винкль, спустившийся с холмов, всклокоченный и, чего доброго, попахивающий пеленками.
Но он сидел за столиком и выглядел прекрасно, особенно в сравнении с партнером, толстым шахматным жуком, чье лицо имело зеленоватый цвет кровельной плитки. Он был пострижен и аккуратно причесан вокруг прогалинки над высоким лбом. На нем была чистая белая рубашка с вишневым галстуком, а поверх — пальто, которого я прежде не видел: по колено, цвета устрицы, замшевое с воротником черного меха — пальто на какого-нибудь царя Дикого Запада.