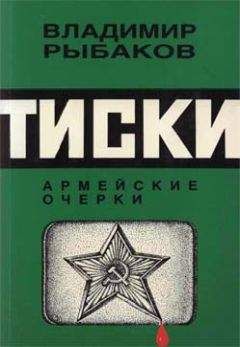Он говорил громко, слишком громко. Это единственное, что я тогда понял. Я зажал ему рукой рот. Сказал: «Молчи. Подноси болванки, но не заряжай».
Он улыбнулся, как люди улыбаются, когда кого жалеют, и ответил: «Не поможет. Ты все равно не поймешь. Для тебя долг есть слепое повиновение. Поэтому ты только солдат, а не человек и солдат». Степаненко говорил, будто сидел за кружкой пива. Его выдавал только голос, он рос и заострялся. Я опять его не понял. Раздражение от непонимания заставило меня сказать: «Хватит. Иди за снарядами. Приказываю!»
Он улыбнулся и пошел.
Как-то мы возвращались из трехдневной командировки. Оборудовали поля для мишеней. Немного заблудились и не успели к ужину в часть. Когда нам на голову свалилась дальневосточная ночь, стало невтерпеж. Остановились возле первого же попавшегося на глаза домика. Толкнули дверь. Зашли. Хотели крикнуть: эй, хозяева, есть ли поесть чего для защитников родины. Но не успели. Глаза запретили. На полу грязной комнаты без мебели сидел мальчишка лет шести. Он катил по полу пустую бутылку из-под спирта. Увидев нас, мальчишка встал на тонкие ноги. Голодного человека легко распознать. Голодного ребенка еще легче. У него были взрослые глаза, в голосе была жадность и деловитость. Он сказал: «Хлеб у вас есть?»
Каждый, пряча глаза, стал доставать из вещмешка остатки своего сухого пайка. Помню, мне и другим захотелось побыстрее уйти и побыстрее все забыть. Малашин нам не дал. Он опустился на корточки перед мальчишкой и спросил, как обычно спрашивают взрослые: «А где твой папа?»
«Где? — переспросил, словно издеваясь, мальчик. — Ушел он. Был таким, как вы, солдатом. А мама в кладовке лежит… Пьет она. Бабушка с дедушкой ее из дому выгнали. Другие папы нас не хотят».
Малашин открыл дверь кладовки, постоял, то ли вглядываясь в лежащую там молодую женщину, то ли пытаясь услышать себя самого. Затем спросил будничным голосом: «А ты хочешь иметь меня папой?» Мальчик недоверчиво кивнул.
Когда мы вышли, я сказал ему: «Для чего попусту дарить надежды?» Малашин ответил: «Не попусту. Я хочу им помочь. Человек же я».
Мы не верили. А он помог. Подарил жизнь двум людям. А после оказалось, что и самому себе.
В течение года учебы курсанты учебсвязи жили, чтоб только выжить. Лица, и так грубые — грубели еще больше, нежные — черствели. В учебке среди нас было два еврея из Львова, вернее один был из-под Львова, другой — из самого города. Первый был здоровый и веселый малый с подходящей к его характеру фамилией Веселовский. Второй был по виду и по существу городским чистюлей, с мягким телом и манерами, и фамилия его была Райш.
Малашин и я чаще всего водились с Веселовским. Вместе с ним бегали в самоволку за бутылкой водки или же за самогонкой. Анекдотов Веселовский знал уйму и соскучиться с ним было просто невозможно. Однако веселье не помешало ему стать комсоргом взвода, а заодно и кандидатом в члены партии. Впрочем, мы не глядели на него косо: ну, хочет парень хорошо пожить… Подумаешь, пусть себе прет по жизни как хочет. Его дело.
К Райшу относились просто никак. Что был он, что его не было, все одно. Иногда он угощал нас, вероятно потому, что мы дружили с его другом и земляком Веселовским, — печеньем, которое ему присылали из дому. Мы брали. Спасибо не говорили. Если симпатии нет, так чего и говорить? Так все и шло. Райш, как и некоторые другие до него, уснул на посту. Другие, в общем, отделывались несколькими сутками ареста. Райшу же не повезло. В часть прибыл новый замполит. Как говорится: новая метла по-новому метет. Новый замполит потребовал для Райша примерного наказания. И заодно решил, что осудить его должны его же товарищи по роте.
Объявили о комсомольском собрании, на котором будет совершаться товарищеский суд. Сон на посту чаще всего карался дисциплинарным батальоном (дисбатом). Но мы думали, что на этот раз новый замполит ткнул пальцем в небо. Комсоргом роты ведь был друг и земляк Райша Веселовский.
Комсомольское собрание провели в послеобеденное время. А когда вместо плаца или класса вас ведут в комнату, в которой можно вздремнуть, делая вид, что бодрствуешь, то никому ни до кого нет дела: хоть расстреливай. По крайней мере, мы с Малашиным так думали.
Первым выступил, как полагается, замполит. Что он скажет, всем было заранее известно: низкий поступок, чуть ли не предательство, примерное наказание и прочее. В общем, я был с ним почти согласен. Если каждый будет спать на посту — какая же это армия? Но я знал, что сержант Райша не давал ему спать несколько суток, а после, не дав отдохнуть, зачислил в наряд. Сержант действовал не по уставу. Доказательств не было, но несправедливость была налицо. Я был за Райша. А Малашин, сидящий возле меня, весь просто горел. Это был, и, думаю, есть человек из тех неистребимых русских людей, которых можно сломать, но не согнуть.
После замполита выступил Веселовский. При первых его словах собрание, которое я считал сонным и нечутким к справедливости, загудело. Возмущенно, как может только гудеть народ. Веселовский повторял слова замполита и в конце своей речи потребовал для Райша несколько лет дисбата. В ответ мягкотелый Райш встал и сказал: «Я вас всех презираю. Можете делать со мной все, что хотите. Вы несправедливы, и я спокоен». Быть может, эти красивые слова Райш взял из книги или учебника, но это дела не меняло. И все, вероятно, и замполит, если только он не потерял человеческое лицо, почувствовали к Райшу уважение.
Малашин пробовал говорить, но у него ничего не вышло, он слишком волновался. Я же был спокоен, так как считал, что как бы там ни было, а сон на посту — вещь плохая. Я взял слово и аккуратно доказал собранию, что то, что случилось с Райшем, может случиться с каждым. Стоять без предварительного сна сутки на посту — физически невозможно.
Впрочем, мои слова были лишними. Все и так были за Райша. Он не попал в дисбат. Собрание его оправдало. А от имени командира части замполит дал ему пятнадцать суток гауптвахты. После окончания собрания Малашин избил Веселовского. Малашину дали пятнадцать суток. Когда Малашин и Райш вышли из камеры, они стали лучшими друзьями. Друзьями они и остались.
Это произошло во время осенних учений. Несмотря на грохот орудии и скрежет гусениц тягачей, всех было умиротворенное настроение. Не было ни духоты лета, ни ледяного зимнего ветра. Воздух был нежен и тонок. Все растущее было покрыто багрянцем с тысячью оттенков. Когда, наконец, были отстреляны последние снаряды и выкопаны последние окопы, наступило то затишье, когда хочется, простирнув гимнастерку, повесить ее сушиться на ствол гаубицы.
Довольные хорошей стрельбой офицеры будто случайно уточнили, что сбор будет только к вечеру, и все, радостные, устремились к короткому забвенью военной жизни. Кто валялся на траве, кто, смастерив леску из суровых ниток, а крючок из булавки, шел к речушке, мелкой, но видимо, богатой рыбой, кто вытаскивал из потайного места в тягаче бутылку самогона, чтобы отпраздновать короткую волю, Я и еще четверо парней из моего расчета решили исследовать окраины полигона, тем более, что несколько дней тому назад разведка донесла, что в двух километрах от наших позиции чернеет большой сруб. Из нас городскими были я и Сверстюк, парень, на которого нужно посмотреть раз сто, чтобы запомнить.
Сруб оказался заброшенной церковью. Крест на ее крыше покосился, но еще держался. Тишина вокруг сруба была какой-то глубокой и мягкой. Такое ощущаешь, когда проваливаешься в милый сон, или когда вспоминаешь детство. Глядя на церковь, я почему-то решил, что построили ее первопроходцы. Был у них, у русских первопроходцев, обычай: сначала строить церковь, после баню и только напоследок жилище для принятия пищи и отдыха.
Оглянувшись на ребят, я заметил, что все, кроме Сверстюка, сняли пилотки. Затем пришла мысль о собственной неснятой пилотке стало стыдно, и я резко обнажил голову. Мне, неверующему, было странно ощущать этот стыд, странно испытывать уважение к срубу. Захотелось избавиться от этих тревожных чувств. В церкви пахло старым деревом. Икон не было, только на полу в углу лежал толстый грубый крест. От распятого на нем Христа осталась только скорбно свесившаяся голова. Хотелось почтительно застыть. Я сделал усилие, сломал в себе почтение и сел на пол. Сверстюк выругался матом и добавил: «Ну и дыра. Воняет тут». Остальные трое остались стоять.
Я спросил: «Чего стоите? Верующие, что ли?» Они ответили: «Нет». Сверстюк нагло шаркал, бил подкованными сапогами по стонущему дереву. Во мне росло раздражение. Хотелось встать. И вместе с тем, мне, который не знал, почему люди ходят в церковь, это желание казалось странным.
Сверстюк подошел к лежащему на полу кресту и помочился на него.
Я до сих пор себя уверяю, что только уважение к памяти первопроходцев заставило меня вскочить на ноги, выволочь Сверстюка из церкви и там, в мягкой тишине, избить его, — я сломал ему нос Осталось острое воспоминание. Что творилось в душе тех трех парней из моего расчета — знают только они.