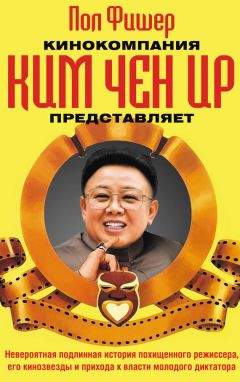Я предложил Акутину состязаться в поднятии тяжестей. Он был на голову ниже меня, но широкоплеч, сбит крепко и с двухпудовой гирей справился намного лучше меня, выжав ее несколько раз правой и левой рукою. Однако со штангой, не зная приемов обращения с нею, далеко отстал от меня и не смог в толчке подняться выше пятидесяти килограммов, как ни дулся. Покончив с железками, мы снова поднялись на антресоли, включили музыку, и я откупорил вторую бутылку. И тут, желая позабавиться, я решил испытать храбрость Акутина, устроив ему номер с черепами. Незаметно за спиною Мити я отдернул шторку с цаплей и стал молча следить за другом. Ждать долго не пришлось, Митя зачем-то обернулся и вдруг вскрикнул самым страшным, невероятным образом… На моих глазах Митя мгновенно побледнел, словно кто-то невидимый облил его белилами, волосы на его голове стали торчком, он отшатнулся, отпрыгнул назад, словно подброшенный электрическим током, ударился о витые узоры светильника, упал, споткнувшись о гантели. Я со смехом бросился к нему, желая успокоить его, но Митя жалобно заблеял, отслоняясь рукою от меня, и — упал на коврик без чувств. Совершенно не ожидавший подобного оборота, я стоял над другом, не зная, что делать. Догадался поднять его и перенести на диван, а потом кинулся вниз, к телефону, и набрал номер теткиной квартиры. Она подошла сама, что было необычно, потому что к телефону всегда подходил Силантий, исполнявший, несмотря на свою докторскую степень, роль секретаря при своей знаменитой жене. Я хотел рассказать тетке, что случилось, но у меня язык не повернулся, что-то неимоверно тоскливое, мрачное и сильное захватило мое сердце, и я, громко откашливаясь, ничего не сказал Маро и лишь попросил, с трудом справляясь с собою, чтобы она разрешила переночевать Акутину в мастерской.
— Хорошо, — сразу же ответила тетя, но добавила, внушительно произнося каждое слово: — Только не вздумай никого звать на помощь. Понятно?
— Не буду, — согласился я и тут же, холодея от внезапной догадки, нетерпеливо спросил: — А как вы угадали… тетя?
— Спокойней, голубчик, — насмешливо и грубовато молвила Маро Д.
С тем она и отключилась, а я, слушая пустые частые гудки, не сразу понял, что странный разговор наш окончен. Впервые мне, юноше семнадцати лет, открылось, что за внешним спокойствием и будничностью жизни кроется ее тайная глубина, начинающаяся тут же, под тоненькой пленкой обыденности, и уходящая в кромешную темноту, где шевелятся, трудятся неведомые свету чудовища. Ночь замерла тихо в том ее куске, который был охвачен стенами и потолком мастерской, где-то вдали шумела ночная Москва, я поднимался с кружкой воды по скрипучей лестнице на антресоли, и мне казалось, что тетка Маро каким-то образом следит сейчас за мною, видит каждый мой шаг.
Когда я подошел к Акутину, он уже пришел в себя и лежал с открытыми глазами. Молча уставился на меня взглядом, совершенно непонятным мне, но вполне соответствующим той неопределенной властной тоске, которая захватила мою душу. От выпитого вина и от треволнений неожиданного происшествия сознание мое как бы несколько отдалилось и существовало чуть в стороне от меня подлинного, мысли и последовавшие слова исходили словно откуда-то со стороны, а само истинное мое «я», замкнувшееся во внезапной скорби, не хотело ни мыслить, ни произносить слов.
— Чего ты так испугался, Митя? — спрашивал мой испуганный голос. — Какой ты, оказывается, впечатлительный, старик. Извини… Вот чепуха вьишга, черт побери, — лепетал голос дальше…
Акутин не отвечал, все так же странно глядя на меня. Приподнялся и сел, вздохнул глубоко и прикрыл двумя руками лицо, словно скрывая нахлынувшие слезы. Однако он не плакал — посидел минуту неподвижно, отнял руки от лица и полез с тахты. Я протянул ему кружку с водой.
— Выпей.
Акутии отвел мою руку и, обойдя меня, направился к лестнице.
— Митя, ну что случилось? Неужели ты костяшек пустых боишься? — спрашивал я, удерживая его за плечо. — Или обиделся на меня? За что?
Он остановился и, повернувшись, спокойным взглядом окинул полки с черепами. Затем открыл рот, беззвучно пошевелил губами и, опустив глаза, уныло потупился. Не знаю почему, но мне это показалось настолько смешным, что я расхохотался и расплескал воду из кружки. Акутин вновь внимательно, серьезно посмотрел на меня и стал спускаться с лестницы. А я уже не мог остановиться и смеялся до слез, со странными для меня самого подвизгиваниями и вхлипываниями, вылил остатки воды на ковер и с пустой кружкой в руке поплелся вслед за Митей, Внизу, в полутемном проходе, я, с трудом одолев свой смех, попытался удержать его, доказывая, что уже поздно, погода на улице плохая, ехать далеко, уж лучше бы он остался ночевать. Но Акутин молча остановился у входной двери с видом терпеливого ожидания и не поворачивался ко мне. Я вынужден был постучаться в комнатку к Трычкину, и тот, в солдатских кальсонах и синей майке, в тапочках на босу ногу, вылез из своей берлоги с грозным ворчанием и загремел ключами.
— Не запирай, Федот Титыч, я скоро приду, — сказал я.
— А хотя бы и совсем не приходил, чертяка непутевый, — чертыхнулся страж, зябко переминаясь на месте.
— Спокойней, Трычкин, — осадил я ворчуна, постаравшись придать голосу насмешливо-уверенный тон Маро Д. — Провожу человека и вернусь.
— Я вот скажу завтра самой, что ты пьянством здесь занимался, Георгий, пригрозил мне старик, прежде чем Закрыть за нами дверь.
Мастерская Маро находилась в одном из новых районов Москвы, занимая половину большого павильона со стеклянными крышами для верхнего света; вторая половина принадлежала пейзажисту Хорошутину и была отделена штакетником, а весь участок, приданный мастерским, был огорожен металлической сеткой. Я никогда не видел, чтобы пейзажист прогуливался по своей половине участка, там вообще незаметно было никаких признаков жизни, а в этот поздний час — около одиннадцати ночи, — в дождливой осенней теми двор и дорожки и огромные темные окна производили довольно мрачное впечатление. Мы с Акутиным вышли за калитку, справившись со сложной системой щеколд и запоров, и направились в сторону трамвайной остановки. Акутину до своего общежития нужно было ехать через всю Москву — сперва трамваем, а потом в метро.
— Ну как, Митя? Прошло уже? — спросил я, когда мы подошли к трамвайной остановке, совершенно безлюдной в этот час.
Он ничего не ответил… Трамвая долго не было, и мы стояли под мелким холодным дождем, подняв воротники своих парусиновых плащей. Я чувствовал, что над нашей дружбой, начавшейся так хорошо, занесена какая-то невидимая враждебная рука. Но я не способен еще был постичь, что произошло, и если бы не белка, до конца дней моих так и не понял да и забыл бы об этом странном вечере на мокрой окраине Москвы. Холодный огонь ярких фонарей с бесполезной мощью разгорался над пустынной улицей, и возле светильников, похожих на металлические опрокинутые писсуары, клубились облака из дождевых капель. Трамвай подходил весь мокрый, облитый жидкими огнями бликов, с треском бросая голубые искры во влажную высь городских небес. Митя молча пожал мне руку и вспрыгнул на ступеньку совершенно пустого вагона. Усевшись на место возле кассового ящика, он прильнул к забрызганному крупными каплями стеклу и смотрел на меня, пока не отошел трамвай. И во взгляде моего товарища, уносимого в полумглу бесконечных московских улиц, было то же тоскливое чувство понимания, что и у меня в душе. Мы знали: неведомая сила развела нас.
Это произошло ненастным московским вечером, много лет назад, а сейчас я сплю в своем ранчо, расположенном на берегу реки Купер-Крик, и сон мой глубок, рядом тихо спит Ева, моя жена, австралийка польского происхождения, в соседних комнатах спят трое наших детей, прислуга, художник Зборовский, наш гость и дальний родственник жены, сенбернарша Элси, добродушная дурочка с отвислыми щеками. Миллионы сонных видений проносятся над безмолвной страной моего спящего разума, словно неисчислимые тучи розовых и белых птиц. Очевидно, я счастлив вполне, коли так умиротворены птицы моих сонных грез, и тишина омывает все необозримые пределы души, раскрывшейся во сне. Но вот пробежал где-то по краю этого царства тишины небольшой зверек с пышным рыжим хвостом, на бегу сверкнул умными бусинками глаз — и вмиг все беспредельное сузилось, сжалось до размеров обычного человеческого тела. Я вновь оказался во власти белки, и он увел меня в осеннюю московскую ночь моей юности, во влажную темноту, плывущую мимо огненных фонарей, на ветер сырой и терпкий, словно мои внезапные ночные слезы. Митя Акутин! Он был первым моим другом-братом в святом братстве художников нашего мира.
Возле ограды, окружавшей двухэтажный павильон мастерских, я увидел тень какого-то огромного животного, что промелькнула по ту сторону металлической сетки. Приблизившись к калитке, я тихо открыл ее и крадучись пошел по дорожке, нагибаясь и стараясь увидеть при свете дальних фонарей то, что тяжеловесно передвигалось за штакетником. И заметил, как еще раз промелькнул громадный зверь. Вблизи мне удалось ясно рассмотреть его — это был невероятных размеров дог. Он прошел почти в двух шагах от меня, пыхтя, пофыркивая, стуча когтями по камешкам, и, перебежав через лужайку, наполовину скрылся за толстым стволом дерева. Мне хорошо было видно, как пес машет хвостом, а затем, вытянув его саблей, высоко поднимает ногу. Закончив туалет, дог двинулся вперед — и из-за ствола вместо него вышел человек, застегивая на ходу брюки. Он направился прямо ко мне, остановился по ту сторону забора; положив одну руку на штакетник, заговорил со мною и попросил разрешения прикурить — я курил, идя от трамвайной остановки, и все еще держал в руке горящую сигарету. Не успев прийти в себя от изумления, я протянул ее незнакомцу, тот пригнулся, во рту у него торчала длинная сигарета, ее кончик, слегка вздрагивающий, коснулся красной точки моей сигареты. В тот же миг незнакомец исчез, а я так и остался стоять с протянутой через ограду рукою, в которой тлел окурок. Бросив его в мокрую траву, я направился к дверям теткиной мастерской.