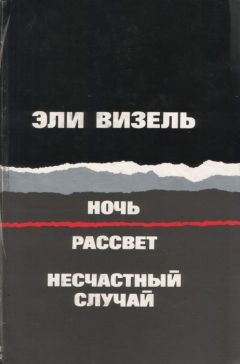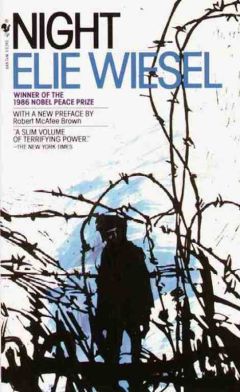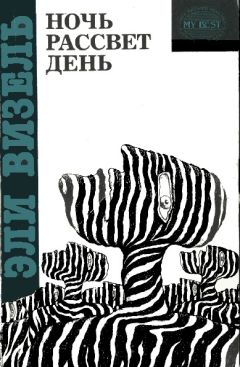«Они боятся», — шепнул Юлек.
Два эсэсовца привели из тюрьмы осужденного на казнь. Это был юноша из Варшавы. Три года он провел в концентрационном лагере. Сильный, хорошо сложенный парень, просто великан по сравнению со мной.
Стоя спиной к виселице, лицом к своему судье — начальнику лагеря, парень побледнел, но казался скорее взволнованным, чем испуганным. Его скованные руки не дрожали. Глаза холодно смотрели на сотни эсэсовских охранников, на тысячи заключенных вокруг.
Начальник лагеря начал читать приговор, отчеканивая каждую фразу: «Именем Гимлера… заключенный номер… украл во время тревоги… Согласно закону… параграф… заключенный номер… приговаривается к смертной казни. Пусть это послужит предостережением для всех заключенных».
Никто не шевельнулся.
Я слышал стук собственного сердца. Тысячи, ежедневно погибавшие в печах крематория Аушвица и Биркенау, меня больше не беспокоили. Но этот, прислонившийся к своей виселице, — поразил меня.
«Как ты думаешь, эта церемония еще надолго? Я жрать хочу…» — шепнул Юлек.
По сигналу начальника лагеря оберкапо подошел к узнику. Двое заключенных (за две тарелки супа) помогали ему. Капо хотел завязать юноше глаза, но тот отказался.
Помедлив немного, палач надел ему веревку на шею. Он как раз собирался приказать своим помощникам выдернуть стул из-под ног узника, когда тот закричал спокойным, громким голосом: «Да здравствует свобода! Будь проклята Германия! Проклята!.. Про…»
Палачи закончили работу.
Команда «шапки долой» рассекла воздух, как клинок. Десять тысяч заключенных отдали последний долг. «Надеть шапки».
Затем весь лагерь, блок за блоком, должен был пройти мимо повешенного, глядя в его тусклые глаза, на вывалившийся язык мертвеца. Капо и начальники блоков заставляли каждого смотреть ему прямо в лицо.
После марша нам разрешили вернуться в блоки и поужинать.
Я помню, что суп в тот вечер был превосходен…
Я присутствовал и при других казнях. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из жертв плакал. За долгий срок эти иссушенные тела позабыли горький вкус слез.
За исключением одного случая. В пятьдесят второй команде был оберкапо — датчанин, гигант, добрых шести футов ростом. Ему подчинялись семьсот заключенных, и все его любили, как брата. Никто никогда не получил от него удара, не слышал оскорбления.
Ему помогал молоденький мальчик, пипель, как их здесь называли, очаровательный ребенок с удивительно красивым лицом, такого не видывали в этом лагере.
(В Буне пипелей ненавидели, они зачастую бывали более жестоки, чем взрослые. Я видал, однажды, как тринадцатилетний мальчишка избивал отца за то, что тот неправильно застелил койку. Старик тихо плакал, а его сын кричал: «Если ты сейчас же не заткнешься, я не буду носить тебе хлеб. Ты понял?» Но малыша, помогавшего датчанину, все любили. Лицом он походил на печального ангела.)
Однажды на электростанции Буны произошел взрыв. Гестапо, вызванное на место происшествия, заподозрило саботаж. Они напали на след, который привел к оберкапо-датчанину. А у него после обыска нашли изрядный склад оружия.
Оберкапо немедленно арестовали. Несколько недель его пытали, но безрезультатно. Он не назвал ни одного имени. Его отправили в Аушвиц, и мы больше никогда о нем не слыхали.
Но его маленького помощника оставили в лагерной тюрьме. Подвергнутый пыткам он тоже отказался говорить. Тогда его и других двух заключенных, захваченных с оружием, приговорили к смерти.
Однажды, вернувшись с работы, мы увидели три виселицы, маячившие на сборном плацу, словно три черных ворона. Перекличка. Вокруг эсэсовцы, наведенные пулеметы — обычная обстановка. И три жертвы в цепях, и один из них — малыш-помощник, ангел с печальным взглядом.
Казалось, эсэсовцы были озабочены и раздражены более, чем обычно. Повесить мальчишку на глазах у тысяч зрителей — нелегкое дело. Начальник лагеря зачитал приговор. Все глаза глядели на ребенка. Мертвенно-бледный, абсолютно спокойный, он покусывал губы. Тень от виселиц падала на него.
На этот раз: лагерный капо отказался от роли палача. Его заменили три эсэсовца.
Трое приговоренных встали на стулья. На три шеи одновременно накинули три петли.
«Да здравствует свобода!» — закричали двое взрослых.
Но мальчик молчал.
«Где же Бог? Где же Он?» — спросил кто-то позади меня.
По сигналу начальника лагеря три стула опрокинулись.
Тишина нависла над лагерем. На горизонте садилось солнце.
«Шапки долой!» — заорал начальник лагеря. Его голос охрип. Мы плакали.
«Надеть шапки!»
Затем началось шествие. Оба взрослых ухе были мертвы. Их посиневшие, раздутые языки свисали наружу. Однако третья веревка пока дергалась. Слишком легкий, ребенок все еще был жив…
Он оставался в таком положении более получаса, борясь со смертью, умирая у нас на глазах в долгой агонии. А нас заставляли смотреть ему прямо в лицо. Когда я проходил мимо него, он все еще жил. Его язык по-прежнему краснел, глаза не померкли.
Я слышал, как позади меня тот же человек спросил: «Где же теперь Бог?»
И я услышал, как голос внутри меня ответил ему: «Где он? Вот Он — Он висит на этой виселице…»
В тот вечер суп отдавал мертвечиной.
Лето подходило к концу. Заканчивался и еврейский год.
Накануне Рош-а-шана, в последний день этого проклятого года, весь лагерь был наэлектризован напряжением, исходящим из наших сердец. Несмотря ни на что, этот день отличался от всех остальных. Последний день года. Слово «последний» звучало странно. Что если он и впрямь станет последним?
На ужин нам дали очень густой суп, но никто не притронулся к нему. Мы хотели вначале помолиться. К сборному плацу, окруженному колючей проволокой, в молчании сходились тысячи евреев с сосредоточенными лицами.
Темнело. Из всех блоков собирались другие заключенные, сумевшие внезапно преодолеть пространство и время, подчинить их своей воле.
«Кто же ты такой, мой Бог, — размышлял я со злостью, — что для Тебя эта измученная толпа, провозглашающая Тебе свою веру, стонущая от гнева, от возмущения? Что же означает Твое величие, Царь Вселенной, перед этой слабостью, этим разрушением, всем этим распадом? Зачем Ты продолжаешь терзать их больные души, их искалеченные тела?»
Десять тысяч человек собрались для участия в торжественной церемонии, начальники блоков, капо, прислужники смерти:
«Благословим Вечного…»
Голос раввина еле слышался, вначале мне показалось, что это ветер.
«Да будет благословенно Имя Вечного!»
Тысячи голосов повторили благословение. Тысячи людей склонились словно деревья под порывом бури.
«Да будет благословенно Имя Вечного!»
Я сопротивлялся этому всеми силами души. Почему, ну почему я должен благословлять Его? Потому, что Он сжег тысячи детей в своих рвах? Потому, что Он днем и ночью, по воскресеньям и по праздникам, заставлял работать шесть крематориев? Потому, что Он, будучи всемогущим, сотворил Аушвиц, Биркенау, Буну и прочие фабрики смерти? Как я могу говорить Ему: «Благословен Ты, Вечный, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов, чтобы нас пытали день и ночь, чтобы мы видели, как наши отцы, матери и братья гибнут в крематории? Да прославится святое Имя Того, кто избрал нас, чтобы зарезать на Его алтаре?»
Я слышал, как голос раввина, величественный и в то же время надломленный, взлетал над слезами, рыданиями и вздохами всего собрания: «Вся земля и вся Вселенная принадлежат Богу!»
Он все время запинался, как будто у него не хватало сил осмыслить значение слов. Мелодия застревала у него в горле.
А я, мистик по природе, думал: «Да, человек силен, сильнее Бога. Когда Адам и Ева обманули Тебя, Ты изгнал их из рая. Когда поколение Ноя не угодило Тебе, Ты обрушил Потоп. Когда Содом лишился Твоей милости, Ты заставил небо пролиться огнем и серой. Но эти люди, здесь, которых Ты осудил, которых Ты позволил мучить, резать, травить газами, сжигать, что они сделали? Они же молятся Тебе! Они прославляют Твое имя!»
«Все творение свидетельствует о величии Бога!»
Когда-то Новый Год был главным днем в моей жизни. Я знал, что мои грехи огорчают Вечного, я молил Его о прощении. Когда-то я искренне верил, что от одного-единственного моего поступка, одной моей молитвы зависит спасение мира.
С этого дня я перестал молиться. Я больше не мог плакать. Напротив, я ощутил в себе силу. Я обвинял, а Бог стал обвиняемым. Мои глаза открылись, и я остался один — чудовищно одинокий в мире, лишенном Бога и человека, любви и милосердия. Я перестал быть чем-либо, кроме горстки пепла, и все же я чувствовал себя сильнее Всемогущего, с которым так долго была связана моя жизнь. Я стоял среди молящихся и глядел на них, как чужой.