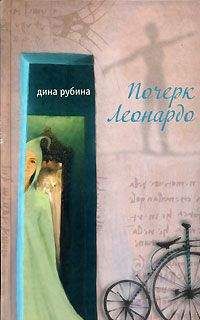– Но… при чем тут! Я не понимаю…
– А я тебе и говорю: Зинка-то ведь в то лето работала администратором Дома культуры. Баба она была видная, молодая, блондинка натуральная… Запала на артиста, бывает. И я тебе так и скажу – брюхо у нее примерно в то время и стало расти. Да и зачем бы ей надо мальчонку на таку неродну фамилию записывать? Видать, хотела похвастать перед людьми, подчеркнуть свое особо положение…
– Но… ему же всегда жена ассистировала! Я знаю, мне рассказывали…
– Ну, жена, жена, – насмешливо подхватила Шура. – Когда это мужика-то остановит? В этом деле, ты ж знашь, ежли красивая баба захочет, жена может круглые сутки с берданкой сторожить… а на минутку поссать отлучится, глядь, ему уже другая… ассистирует.
– Погодите, – пробормотала Маша. – Это что же получается… Что моя Нюта?..
«Что твоя Нюта, – жалостливо подумала Шура, – дважды блудное отродье».
Но сказать так прямо поостереглась. Вслух проговорила:
– А что, оно в народе как считается: незаконные-то, они завсегда красивыми да умными родятся!
Маша сидела, сгорбившись, потрясенная и придавленная. Не притронулась ни к чаю, ни к кексу.
Сейчас вдруг она вспомнила историю своей подружки Леночки Зарядной, певицы Киевской оперы, которая хвасталась, как однажды ее, отбывавшую практику в Свердловской филармонии, попросили встретить поезд, в котором приезжал на гастроли уже гремевший повсюду таинственный Вольф Мессинг.
Как, подрагивая мелкими розами в руках, она стояла на перроне и ждала статного романтичного волшебника… а из вагона вышел невысокий щуплый человек.
Она, конечно, виду не подала, сделала уважительно-восторженное лицо, а он рассмеялся, и сказал: «Ну, не великан, что поделаешь. Но, моя девочка, рано или поздно вы поймете, что не в росте счастье!»
И что ж теперь, думала Маша, как со всем этим управляться, с этими генами богатыми… с этим проклятым наследством?
А Шура наоборот, расправилась, будто освободилась. Речь ее потекла охотнее, оживленней:
– …И что ж это, думаю, за родня така, что сиротку бросают на произвол, как говорится, рока! Херова эта родня! Даж и на похороны не приехали. Да и шут с ними, думаю. Справили мы сами поминки по Рите в их однокомнатной – вишь, тут рядом, на площадке. Ну, все честь по чести – я зеркала занавесила, стол накрыла, холодец застудила, пирог спекла с капустой. После похорон заехали сюда, выпили-поплакали с ее подружками, песни попели… Хорошо посидели. Ну а после – что? Взяла девчоночку к себе, пока туда-сюда дело выясняется. А куда было ее девать? Уложила с собой, вон, у стенки. Ночью просыпаюсь, чувствую – пусто рядом! Прислушалась – нет, и в уборной тихо, и на кухне! Свят, свят, куда ребенка черти утащили? Кинулась – моя дверь настежь, на площадке свет горит, и в ихней квартире – тоже. Я босая, на цыпочках – сердце бухает – вон из квартиры… Заглянула к ним – чуть не рехнулась от страха: стоит она, маленька, в чем душа только осталась… на тубарете, знач, перед зеркалом. Черный платок на пол скинула и стоит, внима-ательно так смотрит, будто внутрь заглядыват… Будто слушает кого там, внутри. Ой, лихо!.. Личико, знач, тако радостное, светлое, какого у детей вообще не видала… Водит-водит пальчиком по зеркалу, как человека рисует, и гладит там, гладит кого-то… И все левой рукой. Я тихо так, ласково, шоб не испугать, а то заикой еще станет, тихохонько зову: «А-а-ня-а… Аню-утка-а-а… Ты кого там увидала?» А она, даж не оборотясь, спокойно мне отвечает: «Маму…» Вот рассказываю сейчас, а меня мороз по коже дерет!
Тут Маша отчетливо вспомнила, как впервые занес Анатолий по высокой их лестнице на третий этаж легкую как перышко девочку. Как отперли дверь, вошли в квартиру, а Полина со счастливым лицом уже спешила из комнат, на ходу щелкая выключателями, всюду зажигая свет в первых сумерках. Чешская люстра «Снежок» удвоила освещение прихожей в старинном зеркале.
И вдруг безучастное личико ребенка вздрогнуло, затеплилось и, словно чудо увидела, девочка зачарованно прошептала:
– Зе-е-ер-ка-ло…
А Шура уже разговорилась совсем. Тяжесть, что давила ей на сердце эти два года, ушла, и она торопилась выговориться, опростать душу, хотела, чтобы Маша поняла ее и… смирилась.
– И вот тогда, извини уж, Мария, твердо я поняла, что не возьму ее. – Шура говорила быстро и горячо. – Нет! От греха, знашь, подальше. Кто она, чего там такого видит в зеркалах… Бабка моя была на селе Остер гадательницей, к ней многие ходили. Из Чернигова аж приезжали. Так она мне говорила – как увидишь, что человек левой рукой ест али крестится, – беги от того без оглядки. Это не божий промысел, а дьяволовы забавы. Это он, леворукий, наплодил своих последышей…
Она взглянула на потерянную Машу, запнулась. И придержала язык.
После долгой паузы проговорила:
– А после той ночи девчушка есть перестала. Таяла, таяла… Будто Рита ее за собой тащила. Я уж была уверена – вслед уйдет. Пристроила ее на летнюю дачу, шоб хоть на людях померла, а то мало ли чё подумают на меня… Но вишь, как все обернулось. Видать, ей все ж положено пока здесь оставаться. Эт ведь никогда не угадаешь – какие там резоны, кому отойти, кому до старости лямку тянуть… Видно, бог ей тебя послал.
Она умолкла, подумала – чего бы еще задушевного сказать этой бедной женщине, что сидит в такой тяжелой задумчивости, уставившись на бесполезно выставленный – теперь вот высохнет – кекс.
Хоть бы успеть еще каклеты нажарить со всей этой катавасией.
Шура отерла о фартук руки, вздохнула и добавила сурово и сочувственно:
– Теперь, знач, этот крест тебе нести!
…Я получал от него множество писем. Как приятно видеть их в зеркале!..
Однажды в галерее Версаля случилось мне показать их господину маркизу де Мариньи. Тот пробежал глазами несколько строк без видимых усилий, и сказал: «Это написано левой рукой, и хорошо написано».
«И хорошо прочитано», – ответил я.[5]
Анри Дюшен. Об учениках-амбидекстрах
…Я вырос между Европой и Азией.
Город Гурьев, дитя мое, стоит на реке Урал – о чем тебе, само собой, неизвестно, – прославленной гибелью Чапая. Вот краткая географическая справка времен моего детства. Гурьев – областной город Казахской ССР. Прикаспийская низменность, полуостров Мангышлак, нефть, газ и прочие роскошества. Поэтому в Гурьеве, в прошлом – купеческом, казацком и рыбопромышленном, а затем изрядно повытоптанном большевиками, – много было неместных «спецов», вроде моего отца.
Сразу после войны он вывез меня и маму из благодатной Жмеринки, чего ему, давно уже загадочно мертвому, не мог простить мой дед.
Отца с тремя колотыми ранами в груди и боку рыбаки выловили из Урала. Мне тогда было лет пять, ни черта не помню, но впоследствии вот это самое – прибежали в избу дети второпях зовут отца тятя-тятя наши сети притащили – мне нашей сердобольной учительницей разрешено было наизусть не учить.
Мама и потом отказывалась вернуться на Украину, говорила, что не может «покинуть Сашину могилу», хотя месяцами не появлялась на кладбище, и «Сашина могила» представляла собой на редкость унылое зрелище – как, впрочем, и остальные могилы.
Так, значит, спецы, да еще ссыльные, да те, кто убегал самостоятельно от советской власти в тьмутаракань… А она потому и «тьму», потому и «таракань», что курортом не назовешь. Бывшие степи Ногайского ханства – глина, камень, камыши… Климат неприветливый, летом до плюс пятидесяти, зимой до минус сорока. Снег – развлечение редкое. И зимой и летом ветер гонял песок…
Архитектура Гурьева тоже не поражала заезжего венецианца: на центральной улице – конечно же, Ленина – советские невразумительные постройки, окраины потом застроили блочными поганками «хрущоб»… А когда заряжали дожди, перед входом в каждое общественное здание выставлялись сваренные из железных листов большие корыта, наполненные глинистой водой. Из них торчали деревянные палки с прибитыми ошмотьями рогожи. Гражданам-товарищам предлагалось перед входом помыть обувку. Картина в стиле соц-арт: горком, скажем, партии, а перед ним – очередь из солидных мужчин, смывающих глину с галош. Из-за этого повсюду надо было являться загодя, даже в кино. Одним словом, жирная липкая глина казахстанской степи долгие месяцы удобряла нашу жизнь.
Но мы-то обитали в Жилгородке – а это, дитя мое, для всех прочих смердов был Лондон, Париж, Константинополь и бог знает что еще. Этот район строили для начальников пленные немцы. Дома были двухэтажные, из камня, с верандами, витражными окнами, колонками, балясинками и прочими архитектурными улыбками в стиле барокко. Дома-то все белые, обсаженные карагачиными аллеями… словом, Багдад.
Стоял наш Жилгородок у самой реки Урал, там же и парк был огромный, теми же немцами засаженный, впоследствии роскошный – в смысле танцев, аттракционов и летних турниров по шашкам под выросшими деревьями.