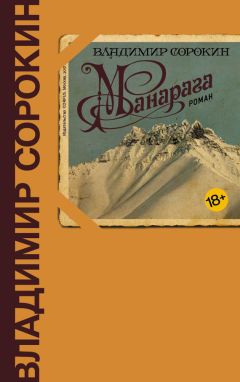Дети смотрели на нависающего над ними Толстого.
– Потому что… она была доброй? – произнес мальчик.
– Потому что она была доброй, – серьезно произнес Толстой.
Тем временем на улице появились все те же сельчане, но уже с корзинами в руках. Они выходили из своих домов и спешили к Толстому.
Люди с корзинами, полными разной снеди, стали подходить и ставить корзины перед Толстым. Толстой смотрел и улыбался.
– Благодарствуйте, люди добрые! – пророкотал Толстой и поклонился людям в пояс, коснувшись рукой земли.
– Откущяй, батьюшка, на здоровье! – громко и резко произнесла молодая сомалийка.
Толстой взял одну корзину, полную деревенской снеди, поднес ко рту, опрокинул в рот и стал жевать – с достоинством и не торопясь, словно совершал дело, важное не только для себя, но и для всех этих людей. Затем поставил на снег пустую корзину, взял новую и поступил с ней точно так же. Потом – третью, четвертую, пятую…
Люди завороженно смотрели, как он опустошает корзины, как неспешно и мощно двигаются его могучие челюсти. Толстой ел так, что на это всем было приятно смотреть.
Насытившись, Толстой рыгнул, вытер рот ладонью и снова поклонился людям.
– А таперича мы б с лохматым и соснули малось, – произнес он.
– Отдохни, батюшка, отдохни, родимый! – закивали люди.
Они знали, что Толстой всегда спит после обеда. “Дневной сон – золото”, – любил говорить Толстой. Они отправились в самый большой сенник села, купцов Халиловых, где уже почти не осталось сена, съеденного скотиной за зиму. Забравшись в сарай, Толстой вытащил из короба мамонта, сунул себе под мышку, лег навзничь и сразу же захрапел. Могучий живот его стал воздыматься и опадать, словно это дышит сама земля. От храпа затряслись дощатые стенки сарая.
Взрослые, оживленно переговариваясь, разошлись по своим домам и делам. А дети все стояли у сарая, заглядывали внутрь и шептались промеж себя:
– Гляди, гляди, Толстой спит!
Закончив чтение, взвешиваю рассказ на руке. Легкое поленце.
– Прочли? – клиент, с сапогом в руках, смотрит на меня.
– Прочел.
Он смотрит на меня выжидающе.
– Что я на этом должен приготовить?
– Три морковные котлеты.
Собираюсь с мыслями.
– Котлеты уже слеплены Сонечкой сегодня утром. Она всегда сама их лепит, кухарке не доверяет.
– Где они?
– Лежат в леднике.
Вот как… Мне остается только сам процесс. Но есть технологическая проблема. На решетке морковные котлетки не жарят.
– Граф, для приготовления этого блюда мне потребуется очень тонкая плоская сковорода.
Клиент встает, снимает фартук, закладывает за пояс левую руку, в раздумье покачивается на носках своих мягких сапог:
– Тонкая сковородка? Вряд ли, вряд ли… Мы питаемся крестьянской едой, простой народной пищей. Ее готовят в русской печи, сковороды толстые, большие. Котлы, чугунки…
– В таком случае нет ли у вас в имении чего-нибудь тонкого металлического?
Он переводит на меня свой внимательный, глубокий взгляд.
Я виртуозно изжарил три морковные котлеты на казацкой сабле XVIII века, обратив рассказ “Толстой” в пепел. Все произошло на летней террасе усадьбы. Слуга открыл окна. Клиент, его жена и дочь сидели за большим столом, рассчитанным на тридцать человек. Женщинам он успел прочитать рассказ вслух перед обедом. Лица их были спокойны и задумчивы.
К котлетам подали кислую капусту, хрен, черный хлеб и воду. После подачи я хотел закрыть жаровню, чтобы ветер, гуляющий по веранде, не разнес пепел, но клиент запретил. Котлеты поедались молча, черные хлопья кружились над столом. За окнами попрохладнело и сгустились тучи. Слуга принес три шубы и заботливо накинул на плечи сидящих.
Я же, как и положено, стоял в белом халате у жаровни.
Клиент прожевал последний кусочек котлеты, запил водой и произнес, глядя перед собой:
– Сколько человеку еды нужно?
Женщины молчали.
– Сколько человеку нужно воды? Сколько человеку нужно воздуха? Сколько человеку нужно одежды?
Женщины сидели, словно оцепенев. Их бледные северные лица оттенялись мехом шуб и хлопьями черного бумажного пепла, порхающего по веранде подобно бабочкам.
– Сколько человеку нужно мебели? Сколько человеку нужно денег? Сколько человеку нужно сна? – продолжал клиент, словно спрашивая кого-то невидимого, тоже сидящего за этим большим столом.
Возникла долгая пауза.
– Сколько человеку нужно любви?
Мы все молчали.
Он тоже помолчал и заговорил:
– У нас возле отцовского дома под мостом одно время поселился нищий бродяга. Мне шел в ту пору пятнадцатый год, я учился в гимназии. Каждый раз, идя в гимназию, я проходил под мостом. И всегда, всегда мимо этого бродяги. Он был не стар, не молод, без возраста, как большинство из них, с таким нечистым, подзаросшим лицом, в замызганной одежде. Если не спал, он сидел на своем грязном матраце и смотрел на прохожих. Рядом стоял бумажный стаканчик с мелочью. В его взгляде не было ни просьбы, ни интереса. Он просто смотрел, провожая каждого из нас своим взглядом. В этом взгляде было что-то неуютное, неприятное для меня. Нет, там не было укора, злобы, зависти или желания разжалобить. Это был просто прямой взгляд. Он просто смотрел на нас, проходящих мимо. Если кто-то клал ему в стаканчик монетку, он даже не кивал головой, а все так же сидел и смотрел. Иногда он ел что-то, иногда спал, забравшись в рваный спальный мешок, иногда с кем-то говорил по мобильному телефону. Я научился проходить мимо этого бездомного, не встречаясь с ним взглядом. Но хватило меня ненадолго. Сам того не желая, я поднимал глаза, отрывал взгляд от земли и смотрел на него. И он успевал глянуть мне в глаза. Обойти его стороной я мог, конечно. Но тогда мне надо было, выходя из дому идти не налево, а направо. И делать большой крюк, чтобы перейти железную дорогу в другом месте. Это было бы глупо, глупо, очень глупо! Ведь я выходил после завтрака из дома, у меня была цель, я шел в гимназию, рассчитывая время, для этого мне надо было обязательно идти налево, только налево. Я никак не должен был идти направо! И я шел налево, под мост. А там сидел он. В любую погоду, в дождь, в мороз этот нищий сидел на своем месте. И смотрел на меня. А я не хотел, не желал видеть его глаза! Встречаясь с ним взглядом, я словно что-то вдруг терял безвозвратно! Словно он что-то забирал у меня, и я шел уже дальше с чувством этой потери. Взгляд! И он забрал. И я пошел дальше, дурак дураком. А он продолжал сидеть. Спокойно сидеть себе. Это было… что-то странное. Он приобрел – я потерял. Сколько раз я молился, чтобы он заболел, или чтобы его забрала полиция, или, может, он бы просто решил вдруг перебраться в другое место, поближе к рынку, например, или на вокзал, где всегда были нищие. Но с ним ничего не случалось. Он сидел и ждал меня. Я иногда шел в гимназию с приятелями, они его вообще не замечали, словно это был камень. Они шли со мной, смеялись, дурачились. А я шел, шел… раз! И глянул. Потом я понял, что надо что-то дать ему. Я заначил дома одну крону и, проходя, кинул в его стаканчик. Он остался неподвижным. Я пошел дальше. А на следующее утро все повторилось снова. Я шел, он сидел. Я взглянул ему в глаза. И пошел дальше пустой, как пенал без ручек и карандашей. Это продолжалось, как дурной сон. Я понял, что, сколько бы я ему ни дал, он все равно будет сидеть и смотреть на меня. Потом я подумал: а не убить ли мне его? Я знал, где у отца лежит шестизарядный револьвер. Я бы взял его, вышел бы вечером, когда стемнеет, пошел бы налево, подошел, выстрелил и побежал бы в сторону гимназии. А потом долго бродил бы по городу. А револьвер я бы кинул в реку. Но потом я понял, что не смогу этого сделать никогда. В общем, ходил мимо него, мучился, потом плевался. До одного дня. У нас была весьма благопристойная гимназия, в ней учились дети состоятельнейших людей города. Траву покуривали. Но о серьезных наркотиках не было речи. Я пробовал траву, и мне почему-то в отличие от других ребят от нее не хотелось смеяться. Просто было как-то… свободно. И все. Но пиво я считал лучше травы. Мы пили его прямо на улицах, из бутылок. И однажды один парень принес на уроки три марки. Маленькие марки с изображением дирижабля. На перемене он завел меня и еще одного парня в туалет и сказал: если хотите кайфануть, сделайте, как я. Он открыл рот и налепил себе марку на язык. Мы сделали так же и пошли на урок. Это была топография. И у меня начались галлюцинации: я увидел, что у нашей топографини вдруг из спины выросли крылья. Но вместо того чтобы открыть окно и улететь, она по-прежнему спокойно ходит по классу и рассказывает нам про геодезических дронов. Я увидел ее в рое этих дронов и расхохотался так, что сполз под парту. Она попросила меня покинуть класс. Я пошел домой. Все вокруг было другим, как бывает под кислотой. И только нищий был все тем же, со своим невыносимым взглядом. И вдруг я понял, что должен сделать. Я пришел домой. На счастье, никого не оказалось дома, даже прислуга и та ушла по делам. Не снимая пальто, я прошел в кабинет отца, снял с комода мраморный бюст Льва Толстого, затем прошел в комнату матери, открыл платяной шкаф, достал из него песцовую горжетку, завернул бюст в мех, вышел на улицу, пошел к мосту. Нищий сидел, завернувшись в тряпье. Я подошел к нему и положил ему на колени бюст Толстого, завернутый в песцовую горжетку. После чего я направился к своему другу. Он жил в пригороде, обычно нужно было ехать на электричке, но я пошел пешком. И через четыре часа пришел к нему. За время моей прогулки действие марки прошло. Мне все показалось так глупо, что, придя к дому друга, я не стал звонить в дверь, а развернулся, дошел до станции, сел на электричку и вернулся домой. Там был переполох: оказывается, уходя, я не закрыл дверь и прислуга решила, что в дом проник вор. В семье решили, что вора спугнули и он похитил только две вещи – бюст и горжетку. Все решили, что вор был пьяницей или наркоманом, поэтому схватил первое попавшееся. На меня не обратили внимания, думали, что я просто вернулся из гимназии. Я поужинал и завалился спать. Утром проснулся, позавтракал, собрался, вышел. Это был солнечный осенний день. Я иду, вижу мост, а под ним… никого. Подхожу – нищего нет. И вещей его – тоже. Пусто! И больше никогда в своей жизни я не видел этого нищего. Не смотрел в его глаза. И вот я хочу спросить вас: почему я отдал ему именно бюст Толстого? В кабинете отца их стояло три – Григ, Ницше и Толстой. Все мраморные. И все они достались от прапрадеда, отец был равнодушен и к Григу, и к Ницше, и к Толстому. Он любил регги, кино, скачки, регату и гольф. Художественную литературу он не читал вообще. Я тогда знал Толстого только по школьной программе, Грига мы знали все, о Ницше у меня было весьма смутное представление. Так почему же я отдал нищему именно Толстого?